«Я человек умеренно амбициозный: мне приятно, когда встречаешь пациента в больнице, тот улыбается и говорит, что выписывают, и благодарит...»
Беседа с Александром Львовичем Левитом
Над текстом работали: Ирина Лядова, Ксения Какшина
Над текстом работали: Ирина Лядова, Ксения Какшина
Александр Левит — яркий представитель медицинской династии Левитов-Свердловых, которая насчитывает 27 врачей.
Родился Александр Львович в 1948 году в Свердловске. Он пошел по семейным стопам, поступив в Свердловский медицинский институт (сегодня Уральский государственный медицинский университет), и в 1972 году начал профессиональную деятельность анестезиологом в Свердловской городской клинической больнице № 23, а с 1978 года — в Областной клинической больнице № 1.
Провел первые на Урале наркозы при трансплантации почки (1991), печени (2005) и сердца (2007). С 1991 года заведует отделением анестезиологии и реанимации ОКБ № 1, с 1997 года главный анестезиолог-реаниматолог Свердловской области, с 2009 года главный анестезиолог-реаниматолог УрФО. Доктор медицинских наук, профессор, отличник здравоохранения, заслуженный врач РФ, преподаватель УГМУ.
Александр Левит рассказывает о своем детстве, семейных традициях и о том, каково это — быть частью медицинской династии, а также рассуждает о восприятии врачей современным обществом.
Родился Александр Львович в 1948 году в Свердловске. Он пошел по семейным стопам, поступив в Свердловский медицинский институт (сегодня Уральский государственный медицинский университет), и в 1972 году начал профессиональную деятельность анестезиологом в Свердловской городской клинической больнице № 23, а с 1978 года — в Областной клинической больнице № 1.
Провел первые на Урале наркозы при трансплантации почки (1991), печени (2005) и сердца (2007). С 1991 года заведует отделением анестезиологии и реанимации ОКБ № 1, с 1997 года главный анестезиолог-реаниматолог Свердловской области, с 2009 года главный анестезиолог-реаниматолог УрФО. Доктор медицинских наук, профессор, отличник здравоохранения, заслуженный врач РФ, преподаватель УГМУ.
Александр Левит рассказывает о своем детстве, семейных традициях и о том, каково это — быть частью медицинской династии, а также рассуждает о восприятии врачей современным обществом.
— Александр Львович, расскажите о своей семье. Коренные ли они жители? Или какие-то обстоятельства привели их в Екатеринбург?
— Мой папа — коренной свердловчанин, а дедушка с бабушкой здесь появились в 1919 году.
Родилась бабушка (Роза Наумовна Вигдергауз, известный врач-педиатр — прим. ред.) в Полоцке, а училась в Харьковском женском медицинском институте у известного профессора Воробьева. К слову, я учился по анатомическому атласу Воробьева. Потом началась Первая мировая война. Бабушка 1894 года рождения, и в двадцать лет ее призвали в армию. Она работала сестрой милосердия в госпитале императрицы Марии Федоровны. Кстати, ни бабушка, ни папа про войну почти не рассказывали. Так вот, когда немцы оккупировали госпиталь, то раненых сразу отпустили, а персонал — только после сдачи всего медицинского оборудования и инструментов по описи.
Война закончилась, и бабушка окончила институт, у нее год оставался, получила диплом врача. В Екатеринбурге было очень тяжелое положение с детским здравоохранением. Поэтому мою бабушку распределили сюда детским врачом. Детская больница была на углу Ленина — Хохрякова. Сюда она позвала свою подругу, тоже врача, Эмму Бунимович, бабушку моей жены Марины Абрамовны Свердловой.
Родилась бабушка (Роза Наумовна Вигдергауз, известный врач-педиатр — прим. ред.) в Полоцке, а училась в Харьковском женском медицинском институте у известного профессора Воробьева. К слову, я учился по анатомическому атласу Воробьева. Потом началась Первая мировая война. Бабушка 1894 года рождения, и в двадцать лет ее призвали в армию. Она работала сестрой милосердия в госпитале императрицы Марии Федоровны. Кстати, ни бабушка, ни папа про войну почти не рассказывали. Так вот, когда немцы оккупировали госпиталь, то раненых сразу отпустили, а персонал — только после сдачи всего медицинского оборудования и инструментов по описи.
Война закончилась, и бабушка окончила институт, у нее год оставался, получила диплом врача. В Екатеринбурге было очень тяжелое положение с детским здравоохранением. Поэтому мою бабушку распределили сюда детским врачом. Детская больница была на углу Ленина — Хохрякова. Сюда она позвала свою подругу, тоже врача, Эмму Бунимович, бабушку моей жены Марины Абрамовны Свердловой.
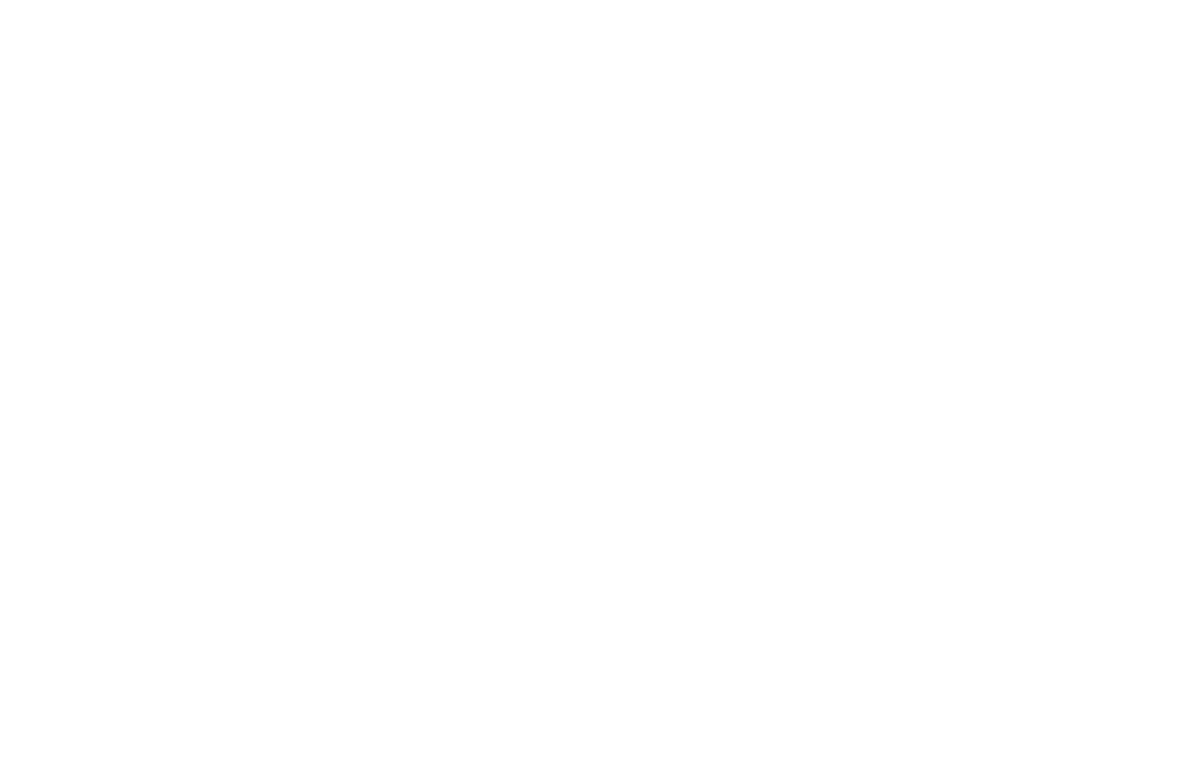
Бабушка и дедушка Александра Левита: Роза Наумовна Вигдергауз и Генрих Львович Левит.
Около 1919 года
Около 1919 года
Дедушка Генрих Львович в царское время окончил Киевский коммерческий институт, а потом приехал сюда к бабушке. Они, по-моему, еще до переезда поженились. Бабушка уже здесь поучаствовала в Гражданской войне в качестве вольнонаемной в Красной армии. А потом ее пригласили в Свердловский медицинский институт на кафедру пропедевтики детских болезней. Она защитила кандидатскую диссертацию, была доцентом и заведовала этой кафедрой до периода борьбы с космополитизмом и «дела врачей» (январь 1953 г., сфабрикованное дело о врачах-вредителях — прим. ред.). И ее уволили.
Бабушка была честнейшим человеком. Она антисемитов называла «хулиганами» и говорила, что «хорошо, что не посадили, а вот в Челябинске профессоров посадили». Представляете! В ней чисто библейское было отношение ко всему.
Бабушка была честнейшим человеком. Она антисемитов называла «хулиганами» и говорила, что «хорошо, что не посадили, а вот в Челябинске профессоров посадили». Представляете! В ней чисто библейское было отношение ко всему.
— А после смерти Сталина восстановили бабушку на кафедре?
— Нет, она не стала восстанавливаться, чтобы не работать вместе с «хулиганами».
В годы Великой Отечественной войны бабушка работала в звании майора в эвакогоспитале. Три войны прошла, получается. Она папе писала на фронт: «Левушка, ты только не пей сырой воды». Представляете, на фронт писать такое! Бабушка — идеальный человек. Был случай, когда она шла домой по улице Карла Либкнехта мимо сельхозинститута, а в здании размещалась академия имени Жуковского, эвакуированная из Москвы. Навстречу ей идет генерал, останавливает ее и говорит: «Почему вы не приветствуете старшего по званию? В следующий раз я вас на гауптвахту посажу!» Бабушка честь ему не отдала. Она ответила: «Ну, извините, пожалуйста» и дальше пошла. Все у нас смеялись в семье над ней по этому случаю.
Потом бабушка работала консультантом в детской больнице № 5, которая располагалась на Декабристов в старом купеческом доме. Однажды она взяла меня с собой на работу, и это решило мою судьбу. Я был в десятом классе. Бабушка надела халат, шапочку, взяла фонендоскоп и пошла на обход. И когда она шла по коридору, открывались двери палат, высовывались ребятишки и кричали: «Бабушка приехала!» Все! Для меня вопрос был решен. Моя учительница математики была очень расстроена, что я не пошел в технари.
Для бабушки самое худшее было, когда она кого-то консультировала, а ей потом не отзванивались о состоянии ребенка. Телефон круглосуточно звонил. У меня сейчас так же. Внук младший посчитал, в среднем за день 82 звонка.
В годы Великой Отечественной войны бабушка работала в звании майора в эвакогоспитале. Три войны прошла, получается. Она папе писала на фронт: «Левушка, ты только не пей сырой воды». Представляете, на фронт писать такое! Бабушка — идеальный человек. Был случай, когда она шла домой по улице Карла Либкнехта мимо сельхозинститута, а в здании размещалась академия имени Жуковского, эвакуированная из Москвы. Навстречу ей идет генерал, останавливает ее и говорит: «Почему вы не приветствуете старшего по званию? В следующий раз я вас на гауптвахту посажу!» Бабушка честь ему не отдала. Она ответила: «Ну, извините, пожалуйста» и дальше пошла. Все у нас смеялись в семье над ней по этому случаю.
Потом бабушка работала консультантом в детской больнице № 5, которая располагалась на Декабристов в старом купеческом доме. Однажды она взяла меня с собой на работу, и это решило мою судьбу. Я был в десятом классе. Бабушка надела халат, шапочку, взяла фонендоскоп и пошла на обход. И когда она шла по коридору, открывались двери палат, высовывались ребятишки и кричали: «Бабушка приехала!» Все! Для меня вопрос был решен. Моя учительница математики была очень расстроена, что я не пошел в технари.
Для бабушки самое худшее было, когда она кого-то консультировала, а ей потом не отзванивались о состоянии ребенка. Телефон круглосуточно звонил. У меня сейчас так же. Внук младший посчитал, в среднем за день 82 звонка.
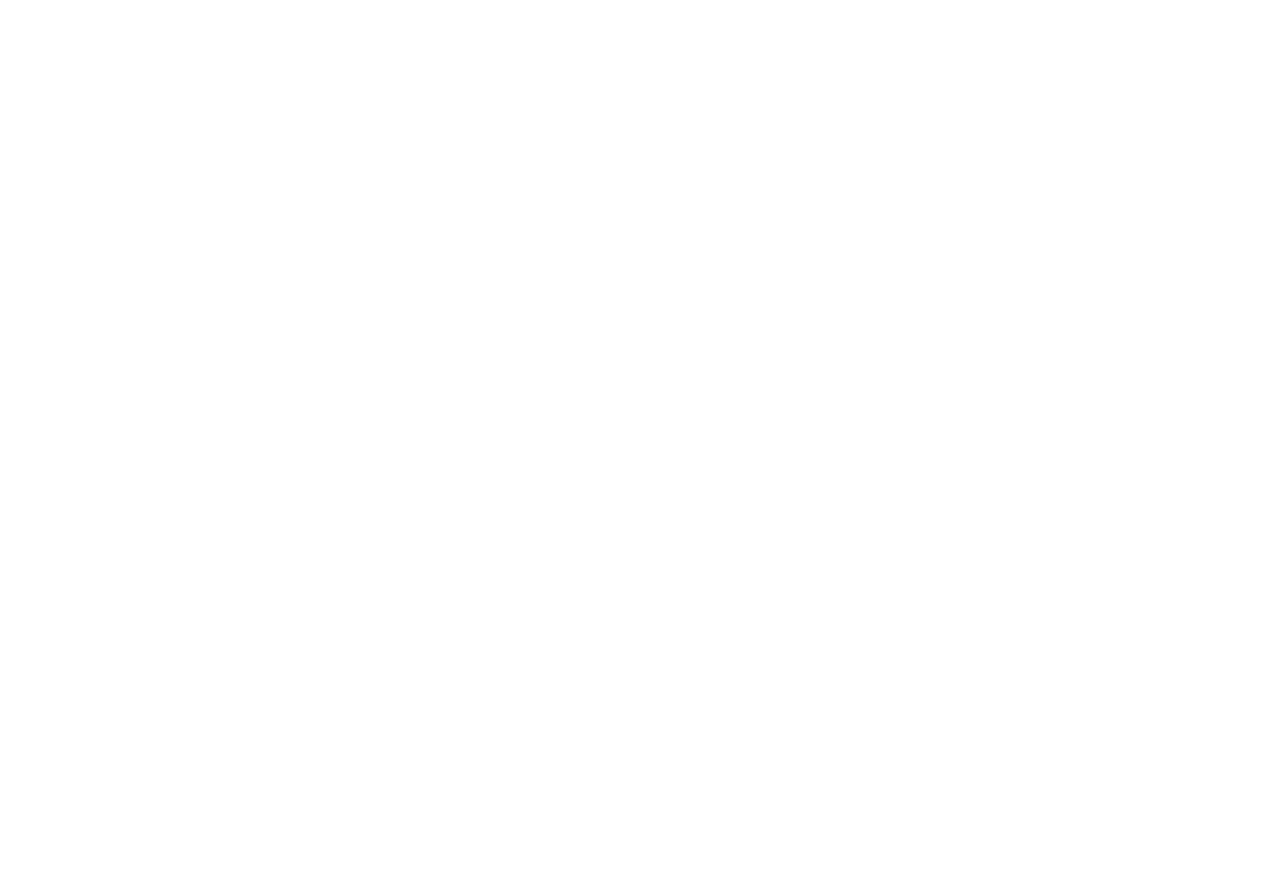
Заведующий отделением анестезиологии и реанимации Свердловской областной клинической больницы №1, главный внештатный специалист анестезиолог-реаниматолог МЗ Свердловской области Александр Левит в рабочем кабинете.
1999 год
1999 год
— Генрих Львович с пониманием относился с такой занятости жены?
— Абсолютно с пониманием!
— А какого года рождения ваш папа?
— 1922 года. Для бабушки он всегда был ребенком. Когда папа уже работал на ЗИКе, ему звонили домой и просили к телефону Льва Генриховича, бабушка брала трубку и отвечала, что такого у нас нет, потому что для бабушки папа всегда был Левушкой. Он был единственным ребенком в семье.
Папу мобилизовали с первого курса в 1939–1940 гг. и отправили на Дальний Восток. Когда началась ВОВ, отправили на курсы младших командиров, а потом на фронт. После войны он учился в УПИ. Там с мамой познакомились. Мама (Дора Соломоновна) преподавала английский язык. А потом появились я и сестра Галя (Галина Львовна Левит, д.х.н., ведущий научный сотрудник ИОС им. И. Я. Постовского УРО РАН).
Папу мобилизовали с первого курса в 1939–1940 гг. и отправили на Дальний Восток. Когда началась ВОВ, отправили на курсы младших командиров, а потом на фронт. После войны он учился в УПИ. Там с мамой познакомились. Мама (Дора Соломоновна) преподавала английский язык. А потом появились я и сестра Галя (Галина Львовна Левит, д.х.н., ведущий научный сотрудник ИОС им. И. Я. Постовского УРО РАН).
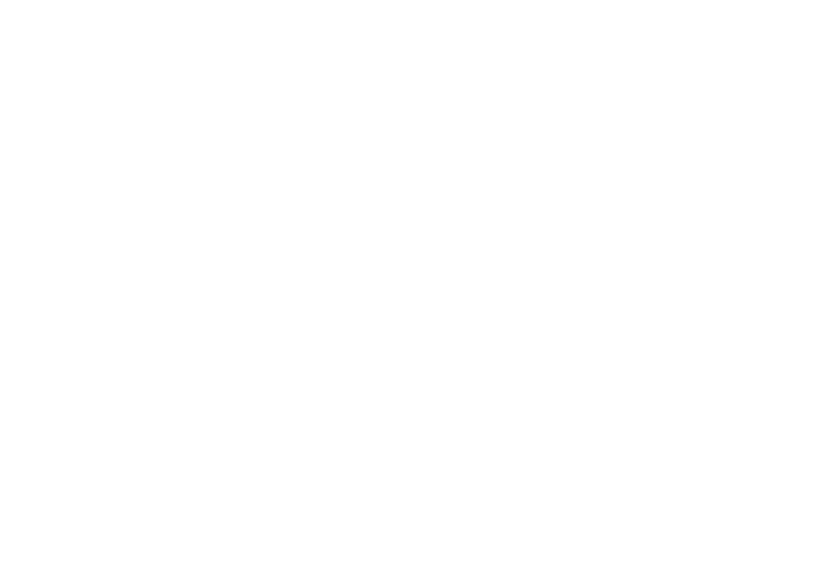
Родители Александра Левита – Дора Соломоновна и Лев Генрихович на фоне дома инженера Ипатьева, пересечение улиц К. Цеткин и К. Либкнехта.
1950 год
1950 год
— А что знаете о родителях своей мамы?
— Дедушка (Соломон Давидович Родштейн) работал окулистом в поликлинике УПИ. Знание немецкого языка позволило ему поступить на медицинский факультет Пражского университета. Продолжил обучение в Дерптском (Тартуском) университете. Их выпустили как «зауряд врачей» — это были врачи без дипломов, потому что они не проходили еще практики. Было такое понятие. И такие врачи могли служить. С 1916 года дед служил врачом в царской, а потом в Белой армии. С начала Великой Отечественной войны, в июне 1941 года, был призван в армию и служил ординатором полевого подвижного госпиталя, а с сентября 1942 года по май 1945 года был начальником глазного отделения эвакогоспиталя. После демобилизации и до выхода на пенсию работал врачом-офтальмологом в поликлинике УПИ. В 1951 году он был награжден высшей правительственной наградой СССР — Орденом Ленина.
Бабушка (жена Соломона Давидовича) в годы войны с моим дядей бежали от оккупантов и добрались до Нижнего Тагила. Потом они переехали в Свердловск. Бабушка преподавала немецкий язык в УПИ. Мама Дора Соломоновна всю жизнь работала на кафедре иностранных языков в УПИ.
Бабушка (жена Соломона Давидовича) в годы войны с моим дядей бежали от оккупантов и добрались до Нижнего Тагила. Потом они переехали в Свердловск. Бабушка преподавала немецкий язык в УПИ. Мама Дора Соломоновна всю жизнь работала на кафедре иностранных языков в УПИ.
— Как деду удалось избежать репрессий, учитывая, что он служил у Колчака?
— Это не афишировалась. У меня есть листок по учету кадров деда. Там просто указано: «служил в армии», а где — не указано.
Репрессии 1937 года нашу семью непосредственно не затронули. Но у деда Генриха Львовича всегда был собран чемоданчик. Все понимали, что происходит. А у бабушки был племянник, который преподавал историю в Москве в Институте красной профессуры. У него даже есть книга, она у нас где-то лежит дома, которая называется «Революция 1848 года во Франции». Его прихватили. На его счастье, следователь оказался его бывшим студентом. И он пустил его по другой статье и сказал «быстро делать ноги». У бабушкиного племянника появилась возможность уехать из Москвы, и он приехал с семьей сюда, в Свердловск.
Репрессии 1937 года нашу семью непосредственно не затронули. Но у деда Генриха Львовича всегда был собран чемоданчик. Все понимали, что происходит. А у бабушки был племянник, который преподавал историю в Москве в Институте красной профессуры. У него даже есть книга, она у нас где-то лежит дома, которая называется «Революция 1848 года во Франции». Его прихватили. На его счастье, следователь оказался его бывшим студентом. И он пустил его по другой статье и сказал «быстро делать ноги». У бабушкиного племянника появилась возможность уехать из Москвы, и он приехал с семьей сюда, в Свердловск.
— Получается, ваш папа и тесть прошли войну и оба не любили рассказывать о войне...
— Тесть (полковник медицинской службы, начальник инфекционного отделения окружного госпиталя, главный инфекционист УРВО Свердлов Абрам Кононович — прим. ред.) закончил войну недалеко от Праги, в Брно. Его даже потом с женой приглашали туда на юбилей Победы, и они ездили в Брно.
Папа рассказывал про войну мало. Первое, про Харьковский котел (крупное сражение Великой Отечественной войны, в котором наступление советских войск началось как попытка стратегического наступления, но завершилось окружением и практически полным уничтожением наступавших сил Красной армии — прим. ред.). Папа не мог слышать фамилию маршала Тимошенко, который хотел выслужиться перед Сталиным. В этом сражении погибло очень много солдат. И когда они драпали из этого котла, ели убитых лошадей: конная тяга была на пушках. И рассказывал, как они топили замки от орудий в реке, чтобы ничего немцам не досталось.
Второе, за что папа получил Орден Отечественной войны. В Красной армии было только девять процентов грамотных — тех, кто окончил школу. Папа был тогда наводчиком, и они смогли сбить немца, который летел на бреющем полете на «Мессершмитте» (Messerschmitt, самолетостроительная фирма Германии — прим. ред.) и огнем поливал отступающих. Об этом была даже статья в журнале «Вестник противовоздушной обороны».
И еще рассказывал, что немцы с самолетов сбрасывали листовки, в которых было написано следующее: «Русские солдаты! Убивайте комиссаров и евреев, сдавайтесь в плен». Папа решил, что под самокрутку подойдет листовка. И его вызвали в Смерш (название ряда независимых друг от друга контрразведывательных организаций в Советском Союзе во время Второй мировой войны — прим. ред.) и сказали: «Ты немецкие листовки зачем хранишь? Хочешь в плен сдаться?» Папа ответил: «Ты чего? Я еврей. Чего вы вообще?» Ржал он потом над этим.
И ранен был. В 1944 году под Псковом. Множественное осколочное ранение. Он корректировал огонь минометов. В газете была статья, как папу солдаты вытащили на плащ-палатке с поля боя, а потом его отправили в госпиталь, в Свердловск, в тот, что был в Доме промышленности. Папа воевал с 1942 года по 1944 год. Начинал воевать на Воронежском фронте, под Ленинградом был.
Папа рассказывал про войну мало. Первое, про Харьковский котел (крупное сражение Великой Отечественной войны, в котором наступление советских войск началось как попытка стратегического наступления, но завершилось окружением и практически полным уничтожением наступавших сил Красной армии — прим. ред.). Папа не мог слышать фамилию маршала Тимошенко, который хотел выслужиться перед Сталиным. В этом сражении погибло очень много солдат. И когда они драпали из этого котла, ели убитых лошадей: конная тяга была на пушках. И рассказывал, как они топили замки от орудий в реке, чтобы ничего немцам не досталось.
Второе, за что папа получил Орден Отечественной войны. В Красной армии было только девять процентов грамотных — тех, кто окончил школу. Папа был тогда наводчиком, и они смогли сбить немца, который летел на бреющем полете на «Мессершмитте» (Messerschmitt, самолетостроительная фирма Германии — прим. ред.) и огнем поливал отступающих. Об этом была даже статья в журнале «Вестник противовоздушной обороны».
И еще рассказывал, что немцы с самолетов сбрасывали листовки, в которых было написано следующее: «Русские солдаты! Убивайте комиссаров и евреев, сдавайтесь в плен». Папа решил, что под самокрутку подойдет листовка. И его вызвали в Смерш (название ряда независимых друг от друга контрразведывательных организаций в Советском Союзе во время Второй мировой войны — прим. ред.) и сказали: «Ты немецкие листовки зачем хранишь? Хочешь в плен сдаться?» Папа ответил: «Ты чего? Я еврей. Чего вы вообще?» Ржал он потом над этим.
И ранен был. В 1944 году под Псковом. Множественное осколочное ранение. Он корректировал огонь минометов. В газете была статья, как папу солдаты вытащили на плащ-палатке с поля боя, а потом его отправили в госпиталь, в Свердловск, в тот, что был в Доме промышленности. Папа воевал с 1942 года по 1944 год. Начинал воевать на Воронежском фронте, под Ленинградом был.
— Папа долго восстанавливался после ранения?
— Долго восстанавливался. Все ноги у него были в рубцах от множественных ранений. Папа умер в 69 лет. У него была и почечная недостаточность, и все на свете. Конечно, помогло то, что он здесь, рядом с родными в эвакогоспитале Свердловска восстанавливался после ранения.
Папа с друзьями 9 мая собирались «у Яши» — у памятника Свердлову значит. Папа никогда не носил ордена, а орденские планки надевал только 9 мая. Он был артиллерийским разведчиком. Они собирались и обходили матерей и живых, и погибших участников войны. А потом приходили к нам в гости.
Папа с друзьями 9 мая собирались «у Яши» — у памятника Свердлову значит. Папа никогда не носил ордена, а орденские планки надевал только 9 мая. Он был артиллерийским разведчиком. Они собирались и обходили матерей и живых, и погибших участников войны. А потом приходили к нам в гости.
— Где жила семья, когда бабушка и дедушка приехали в Екатеринбург?
— Семья обосновались на очень интересном месте: переулок Клары Цеткин на пересечении с Карла Либкнехта, где сейчас церковь, как раз напротив Ипатьевского дома. В наш дом меня принесли младенцем. Меня в колясочке вывозили во двор. Помню, как мы с пацанами перелезали через забор во двор Ипатьевского дома, там лазали. Кто-то мне даже говорил: «Вот в этой комнате царя шлепнули». Я помню большой сад и летучих мышей по вечерам, которые и в наш дом залетали.
— На Клары Цеткин большая квартира была? Сколько вас там жило?
— Жили бабушка с дедушкой, тетка — бабушкина сестра, дедушкина сестра, папа с мамой и я. Помню, было классно... Когда у нас собирались папины друзья, то пели: «Ко мне подходит санитарка, звать Тамарка, Сонька, Райка… давай тебя перевяжу», и это записывалось на собранный папой магнитофон, и на какой-то пленке был бабушкин голос: «Тише! Здесь дети!»
А еще собиралось поколение бабушек и дедушек по воскресеньям у Левитов. Ели обязательно борщ и пели оперные партии из «Аиды» а капелла. Вот так и развлекались. Еще ангажировали ложу в Оперном театре. Но приходили слушать отдельные партии, и кто-то из них слушал арии, сидя спиной к сцене, а потом уходил. Выпендривались так.
В 1959 году деду дали квартиру на Московской, 2. Она достаточно большая: три отдельных комнаты и большой коридор, по которому я на велике катался. Оттуда одно воспоминание: утром меня кормили манной кашей, а я морду воротил. И бабушка говорила: «Ты еще вспомнишь эту манную кашу».
Папе, инженеру ЗИКа, дали квартиру на Баумана, 4б. Квартира 21. Эльмаш. Это была двухкомнатная квартира.
А еще собиралось поколение бабушек и дедушек по воскресеньям у Левитов. Ели обязательно борщ и пели оперные партии из «Аиды» а капелла. Вот так и развлекались. Еще ангажировали ложу в Оперном театре. Но приходили слушать отдельные партии, и кто-то из них слушал арии, сидя спиной к сцене, а потом уходил. Выпендривались так.
В 1959 году деду дали квартиру на Московской, 2. Она достаточно большая: три отдельных комнаты и большой коридор, по которому я на велике катался. Оттуда одно воспоминание: утром меня кормили манной кашей, а я морду воротил. И бабушка говорила: «Ты еще вспомнишь эту манную кашу».
Папе, инженеру ЗИКа, дали квартиру на Баумана, 4б. Квартира 21. Эльмаш. Это была двухкомнатная квартира.
— А как семья оказались в Городке чекистов?
— Дедушка умер в 1963 году. И бабушка, пройдя три войны, была честным и правильным человеком, и она говорила, что ей не нужна большая квартира, просила найти маленькую рядом с сыном. Мы с папой и мамой переехали в Городок чекистов, в 14-й корпус. Бабушке квартиру нашли моментально. Она жила на втором этаже, а родители на третьем.
Александр Левит в Городке чекистов. Фото Алисы Болденковой.
2024 год
— В каком году вы приехали в Городок чекистов?
— Переехали в 1966, а съехали, наверное, в 2000 году. В 1963 году я еще учился в школе, окончил в 1966 году школу № 99 на Эльмаше, на Баумана.
Мы жили в единственном корпусе, где есть лифт, но в нашем первом подъезде его не было. В корпусе по соседству жил замечательный художник по фамилии Субботин. Рисовал замечательные пейзажи. Я приходил к ним в гости. В подвальных помещениях, к слову, тоже жили люди.
Со всеми соседями общались. Сейчас мы соседей не знаем — время другое. А раньше если соли нет, к соседям ходили. Телевизоры были у единиц. Например, у нашей соседки на Эльмаше Марьи Михайловны. Она была вроде врачом, жила с мамой, и мне казалась старой, хотя была женщиной активной, хорошей. И она несколько раз замуж выходила, на что ее мама сказала: «Муся! Ты такая молодая! Что ты торопишься!» Это она сказала, когда Муся уже в четвертый раз выходила замуж. И я вместе с папой к ним ходил хоккей смотреть.
В пятом корпусе Городка чекистов, напротив нашего 14-го корпуса, жила семья Нины Васильевны Токаревой. Нина Васильевна была доцентом кафедры судебной медицины мединститута. Муж у нее был достаточно известный адвокат, сын — музыкант, играл в оркестре. Я у Нины Васильевны учился. Потом мы уже общались, когда я начал работать. Я ее немного опекал, курировал.
Помню, что у нашего подъезда была скамейка, а на скамейках сидели бабки. Между ними пройти... После гулянки первое: пройти сквозь ворота и не промазать. А второе: пройти мимо бабок в подъезд. Бабки лучше камер видеонаблюдения. Они докладывали, кто есть, а кого нет дома. А еще во дворе был каток (он есть и сейчас — прим. ред.). И фонтан. Детей спокойно выпускали гулять без присмотра.
Когда родителей не стало, в родительской квартире жила моя младшая сестра Галина. Она переехала из Городка после пожара, который случился во втором подъезде.
Мы жили в единственном корпусе, где есть лифт, но в нашем первом подъезде его не было. В корпусе по соседству жил замечательный художник по фамилии Субботин. Рисовал замечательные пейзажи. Я приходил к ним в гости. В подвальных помещениях, к слову, тоже жили люди.
Со всеми соседями общались. Сейчас мы соседей не знаем — время другое. А раньше если соли нет, к соседям ходили. Телевизоры были у единиц. Например, у нашей соседки на Эльмаше Марьи Михайловны. Она была вроде врачом, жила с мамой, и мне казалась старой, хотя была женщиной активной, хорошей. И она несколько раз замуж выходила, на что ее мама сказала: «Муся! Ты такая молодая! Что ты торопишься!» Это она сказала, когда Муся уже в четвертый раз выходила замуж. И я вместе с папой к ним ходил хоккей смотреть.
В пятом корпусе Городка чекистов, напротив нашего 14-го корпуса, жила семья Нины Васильевны Токаревой. Нина Васильевна была доцентом кафедры судебной медицины мединститута. Муж у нее был достаточно известный адвокат, сын — музыкант, играл в оркестре. Я у Нины Васильевны учился. Потом мы уже общались, когда я начал работать. Я ее немного опекал, курировал.
Помню, что у нашего подъезда была скамейка, а на скамейках сидели бабки. Между ними пройти... После гулянки первое: пройти сквозь ворота и не промазать. А второе: пройти мимо бабок в подъезд. Бабки лучше камер видеонаблюдения. Они докладывали, кто есть, а кого нет дома. А еще во дворе был каток (он есть и сейчас — прим. ред.). И фонтан. Детей спокойно выпускали гулять без присмотра.
Когда родителей не стало, в родительской квартире жила моя младшая сестра Галина. Она переехала из Городка после пожара, который случился во втором подъезде.
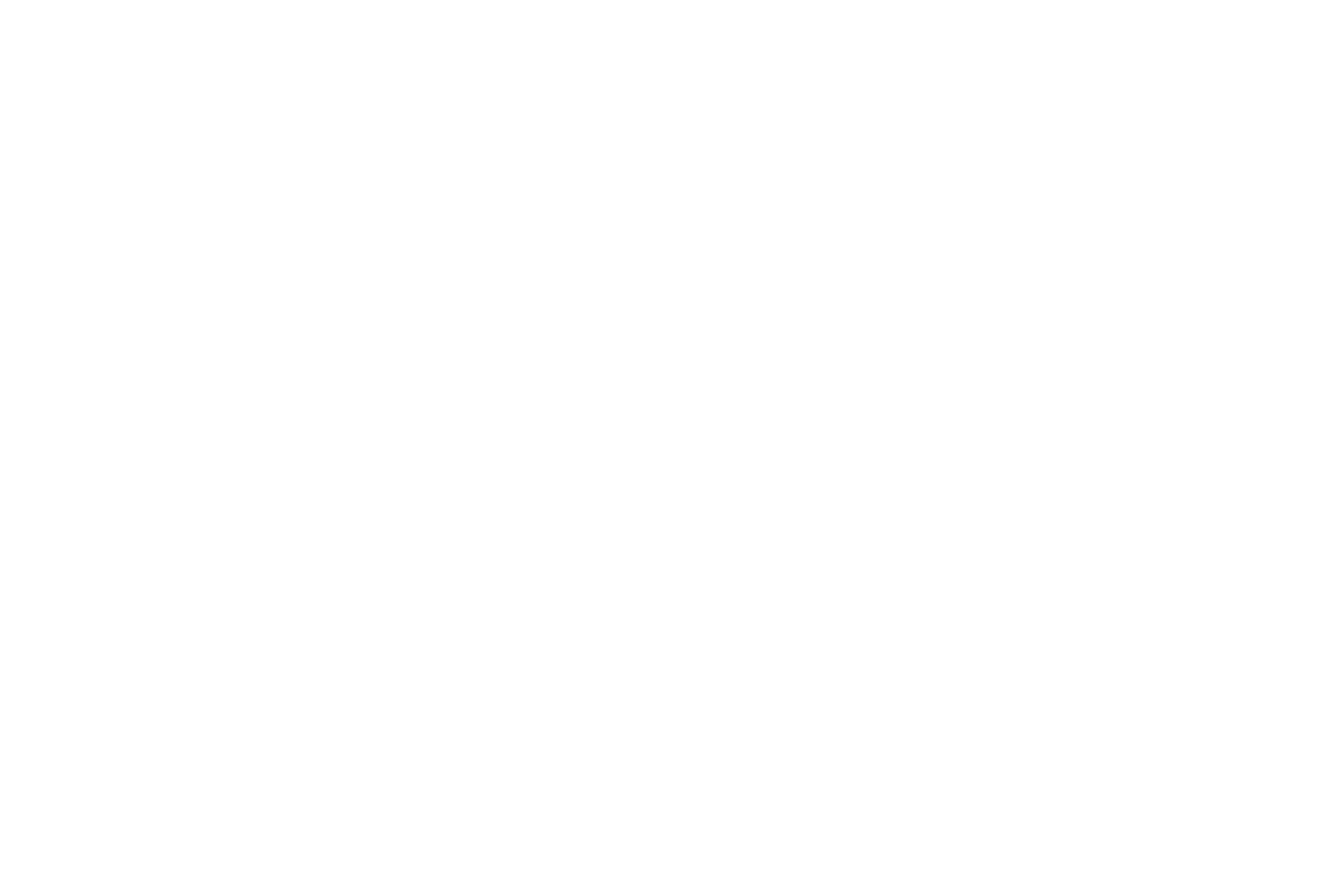
Александр Левит в Городке чекистов. Фото Алисы Болденковой.
2024 год
2024 год
— В домах Городка чекистов ведь еще была столовая. Вы ей пользовались?
— Нет, вы что! Дело заключается в том, что дом был построен до войны, и во время войны было уплотнение. У нас кухни не было как таковой. И папа моей жены, человек прошедший фронт, на кухне никогда не мог кушать, потому что через фанерную стенку был туалет. Он говорил: «Я что в туалете буду кушать?»
— А по соседству, на Ленина, 52, у вас дядя жил?
— На Ленина, 52 жил родной дядя, брат мамы. У его семьи была двухэтажная квартира. Дядя был по профессии инженер. На Ленина, 52 был магазин неплохой. Я у киностудии ставил машину и в магазинчике покупал продукты. В одном из подъездов был магазин «Оптика». Потом они переехали на Первомайскую, за Дом офицеров.
— Вы ведь родились после войны? Каково это — быть послевоенным ребенком?
— Было стихотворение «Мы — последние дети последней войны… Да останутся с нами все наши печали»» (строки из стихотворения Геннадия Русакова — прим. ред.).
— Что вы помните о своем детстве?
— Начнем с того, что гаджетов ведь не было, поэтому читали книжки, гуляли. Когда мы жили в переулке Клары Цеткин, зимой от Карла Либкнехта до Толмачева катались с ледяной горки. Санки были самодельные: брали железки, гнули и делали как у лошади хомут. Полозья были тоже железные. И самый шик был, за что мне отец врезал, когда увидел, как я проскочил на санках перед трамваем, который идет по Толмачева.
Второй раз папа меня треснул... В общем, я ходил в детский сад возле Главпочтамта на Толмачева. Ботинки у меня были со шнурками. Пришел я домой и пытался развязать мокрые шнурки. Сидел в коридоре на сундуке, и не получалось. В итоге сказал непечатное слово, и папа дал мне затрещину. Вот так два раза меня он за всю жизнь треснул.
Было развлечение: лечь на крышу дровяника во дворе дома в переулке Клары Цеткин и клянчить оттуда у работниц кондитерской фабрики на Толмачева: «Тетенька, сбрось конфетку!»
Второй раз папа меня треснул... В общем, я ходил в детский сад возле Главпочтамта на Толмачева. Ботинки у меня были со шнурками. Пришел я домой и пытался развязать мокрые шнурки. Сидел в коридоре на сундуке, и не получалось. В итоге сказал непечатное слово, и папа дал мне затрещину. Вот так два раза меня он за всю жизнь треснул.
Было развлечение: лечь на крышу дровяника во дворе дома в переулке Клары Цеткин и клянчить оттуда у работниц кондитерской фабрики на Толмачева: «Тетенька, сбрось конфетку!»
— Бросали?
— Бросали.
Дрались мы. Я ведь эльмашевский был. У кинотеатра «Родина» дрались. У меня руки бритвой резаные. Но всегда, если человек падал, его не добивали. Дрались нормально. Мы ведь честные были.
Однажды по переулку Клары Цеткин ехал грузовик, который конфеты вез, и коробка с конфетами вывалилась. Мы с пацанами коробку подобрали и отнесли на фабрику обратно. За это нам по шоколадке дали. Нормальное совершенно детство было.
А если про тяжелые детские воспоминания: свинью мужики забивали. Они выпили и за хряком с топором бегали, в итоге его треснули, хряк визжал, а мы, сидя на поленнице, наблюдали. Потом хряка повесили вниз башкой, чтобы кровь стекала в таз. Я до сих пор это помню.
Помню, как дед самовар ставил, огромный такой, и его ставили во дворе, раздували угли. Помню ритуал, как дед вечером брился.
Семья у нас была большая. Был у нас деревянный раздвижной стол, за который садилось человек двадцать. И вот из воспоминаний детства: летом всегда был арбуз. И дед как старший резал арбуз. И вот он резал, а куски мгновенно исчезали. Не успевал резать.
Сундук у нас в прихожей стоял уникальный. На него садились и разговаривали. Бойся гостя стоячего, а не бойся гостя сидячего. Вот садились и разговаривали-разговаривали. Еще на сундуке лупили. Дед в день рождения ритуально дружески шлепал на этом сундуке. В пять лет — пять шлепков, а в 35 лет — 35 шлепков. Настоящий кованый был сундук.
Дрались мы. Я ведь эльмашевский был. У кинотеатра «Родина» дрались. У меня руки бритвой резаные. Но всегда, если человек падал, его не добивали. Дрались нормально. Мы ведь честные были.
Однажды по переулку Клары Цеткин ехал грузовик, который конфеты вез, и коробка с конфетами вывалилась. Мы с пацанами коробку подобрали и отнесли на фабрику обратно. За это нам по шоколадке дали. Нормальное совершенно детство было.
А если про тяжелые детские воспоминания: свинью мужики забивали. Они выпили и за хряком с топором бегали, в итоге его треснули, хряк визжал, а мы, сидя на поленнице, наблюдали. Потом хряка повесили вниз башкой, чтобы кровь стекала в таз. Я до сих пор это помню.
Помню, как дед самовар ставил, огромный такой, и его ставили во дворе, раздували угли. Помню ритуал, как дед вечером брился.
Семья у нас была большая. Был у нас деревянный раздвижной стол, за который садилось человек двадцать. И вот из воспоминаний детства: летом всегда был арбуз. И дед как старший резал арбуз. И вот он резал, а куски мгновенно исчезали. Не успевал резать.
Сундук у нас в прихожей стоял уникальный. На него садились и разговаривали. Бойся гостя стоячего, а не бойся гостя сидячего. Вот садились и разговаривали-разговаривали. Еще на сундуке лупили. Дед в день рождения ритуально дружески шлепал на этом сундуке. В пять лет — пять шлепков, а в 35 лет — 35 шлепков. Настоящий кованый был сундук.
— Я почитала про вашу династию. Врачей много у вас в роду. Каково это — быть частью медицинской династии?
— Тесть посчитал: тысячу лет служит наш род врачами, из них 600 лет только на Урале. Чувство по поводу причастия к медицинской династии только одно: не посрамить! Я и младшему говорю: «Фамилию не посрами!», потому что все наши известны. Ты не должен быть хуже, чем предыдущее поколение.
— Бабушка радовались выбору вами профессии врача?
— Думаю, да. Ей было приятно. В отличие от нашей дочери, которая сказала: «Я в медицине? Да ни в коем случае!» И внуки, когда смотрят на меня и моего сына (сын Александра Львовича Дмитрий Левит тоже работает врачом-анестезиологом — прим. ред.), тоже не хотят: так ишачить и так мало получать.
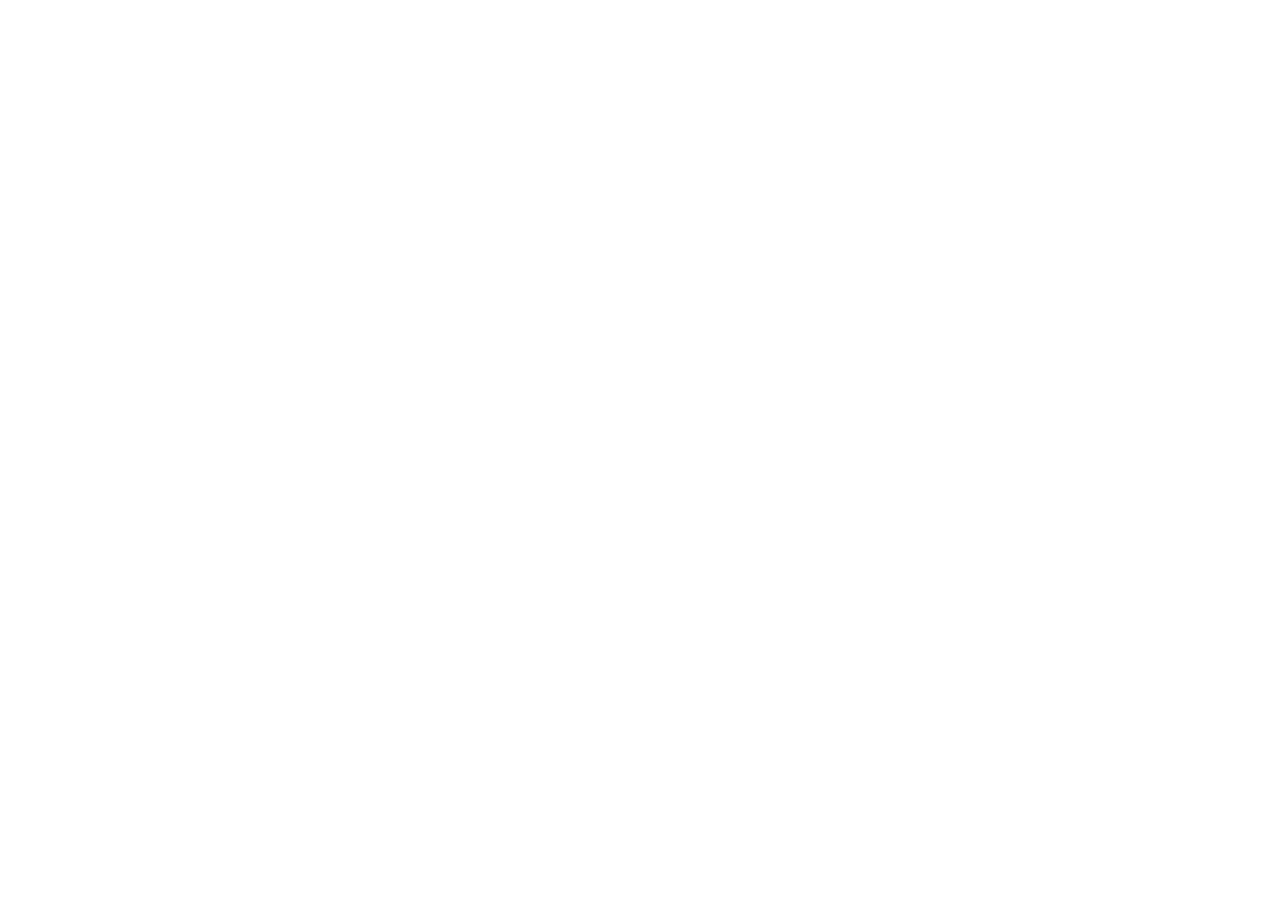
Свадьба дочери Наташи, кафе Горного института во дворе Ленина, 56.
1994 год
1994 год
— Насколько сегодня авторитет врача отличается от того авторитета, который был во времена вашей бабушки? Изменилось отношение к этой профессии или остается ореол романтики вокруг этой профессии.
— На мой взгляд, общество деградирует. На самом деле, если человек себя уважает, то и его уважают. Сейчас медицина — это ремесло. Меня коробит словосочетание «медицинские услуги». Услуги могут быть парикмахера, банщика и так далее. Извините меня, учиться десять лет, чтобы оказывать услугу — это неверно. Сейчас уважения к профессии врача стало меньше.
— Еще многочисленные сериалы про врачей формируют в обществе образ врачей…
— Я не смотрю сериалы. Единственный сериал про врачей, который я смотрел, это американский сериал «Скорая помощь» с Клуни и еще сериал «Доктор Хаус». Особенно «Скорая помощь» с медицинской точки очень достоверен.
СМИ бесконечно муссируют, кто где умер, вину врачей. Вот это ужасно. Врач не имеет права на ошибку, но есть врачебные ошибки, не связанные с халатностью. Бывают обстоятельства, которые выше нас. Сейчас система контроля: есть ведомственный, есть вневедомственный контроль — это страховые компании, и есть Следственный комитет. Может быть это и нужно. Но ореол вокруг профессии врача полностью развеян. Сейчас это конвейер.
СМИ бесконечно муссируют, кто где умер, вину врачей. Вот это ужасно. Врач не имеет права на ошибку, но есть врачебные ошибки, не связанные с халатностью. Бывают обстоятельства, которые выше нас. Сейчас система контроля: есть ведомственный, есть вневедомственный контроль — это страховые компании, и есть Следственный комитет. Может быть это и нужно. Но ореол вокруг профессии врача полностью развеян. Сейчас это конвейер.
— Ваш сын врачом работает в Первой областной больнице?
— Да. Дмитрий — ведущий анестезиолог при трансплантации печени. Он кандидат наук, хороший, тьфу-тьфу-тьфу, специалист.
— Вы были первым, кто проводил наркоз при трансплантации печени, сердца. Каково это — быть первым?
— Я заведующий отделением, поэтому, когда возникает новая технология, сначала я ее обкатываю.

Выступление Александра Левита в Москве на Всероссийском съезде анестезиологов.
1998 год
1998 год
— Насколько быстро обновляются технологии?
— Меняется техника операции и при трансплантации разных органов. Принципы современной анестезии одни и те же, но есть свои нюансы. Когда я учился, нам говорили: «Проводи наркоз, чем умеешь». Выбор-то небольшой был. Сейчас мы частично к этому возвращаемся. Главное, чтобы ткани не страдали от отсутствия кислорода во время проведения анестезии. А как ты этого добьешься? Есть специальные алгоритмы. Люди разные, поэтому подходы к анестезии разные. Еще в 1789 году великий русский врач Матвей Яковлевич Мудров написал: «Нет одинаковых пациентов». Я услышал примерно то же самое на конференции в Брюсселе европейской ассоциации интенсивной медицины примерно в году 2015 году: «Нет одинаковых пациентов, нет одинаковых наркозов». К каждому пациенту индивидуальный подход. Важно, как ты оцениваешь пациента до анестезии. Оценка — это очень важно. Оценка его сопутствующих заболеваний.
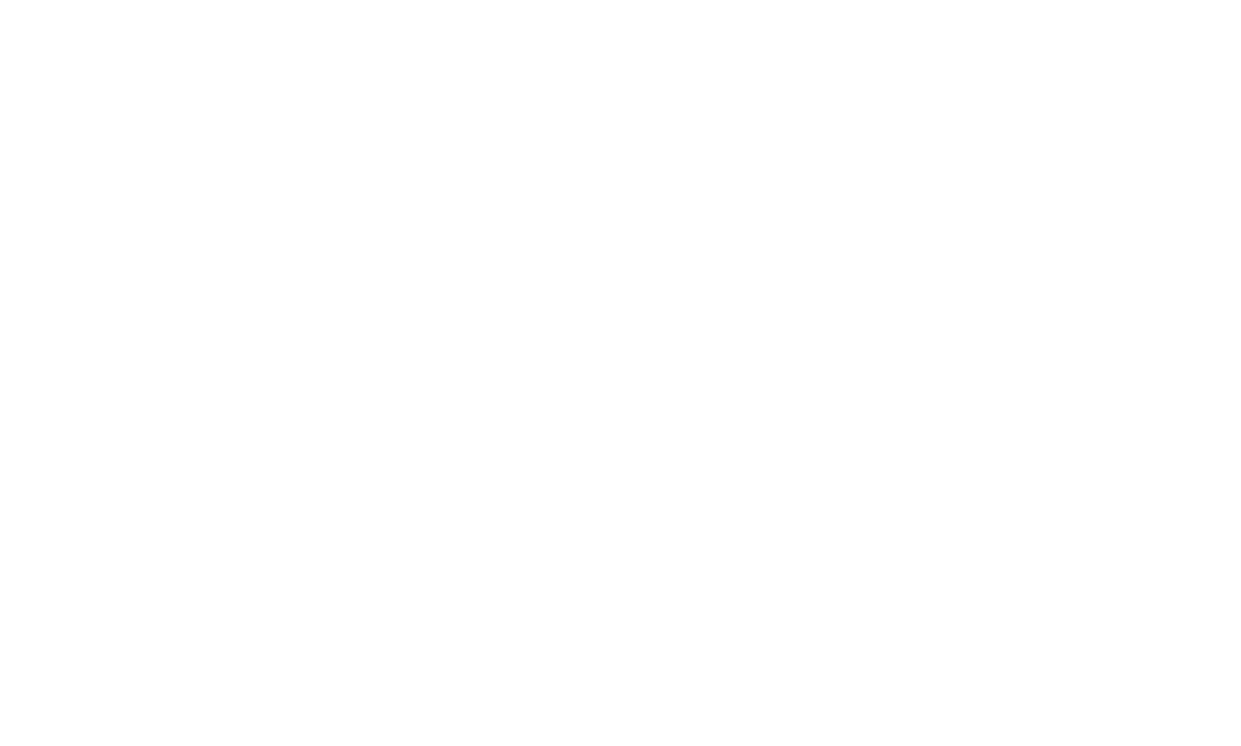
Коллектив реанимационно-анестезиологического отделения ГКБ №23.
1973 год
1973 год
— А бывают случаи, когда пациент утаивает про себя какую-то информацию. Стесняется признаться в алкоголизме, например.
— Это бывает. Это зависит от того, как вы с ним разговаривает, зависит от квалификации врача. Существуют утвержденные федеральные порядки, клинические рекомендации по всем видам медицинской помощи, включая анестезиологию и реаниматологию. В «Порядке оказания анестезиологической помощи» сказано, например, что тридцать процентов рабочего времени врач-анестезиолог тратит на консультирование пациента, на разговор с пациентом.
«Если вы не можете разговорить пациента, то грош вам цена как врача», — эту фразу своего преподавателя Людмилы Ивановны Савичевской я хорошо помню до сих пор, хотя сколько лет уже прошло. Она преподавала у нас терапию. Великолепный врач. Прошла войну врачом в санитарном поезде.
«Если вы не можете разговорить пациента, то грош вам цена как врача», — эту фразу своего преподавателя Людмилы Ивановны Савичевской я хорошо помню до сих пор, хотя сколько лет уже прошло. Она преподавала у нас терапию. Великолепный врач. Прошла войну врачом в санитарном поезде.
— То есть анестезиолог должен быть общительным человеком?
— По сути дела, анестезиология — это единственная специальность, где специалист является поливалентным. Я настаиваю на том, что есть понятие «периоперационная медицина», то есть анестезиолог — не «наркотизатор», а лечащий врач пациента во время анестезии. Пациента, у которого временно утрачены естественные функции, то есть анестезиолог берет на себя управление жизненными функциями организма. И я учу этому коллег уже много лет: ребята — мы Врачи.
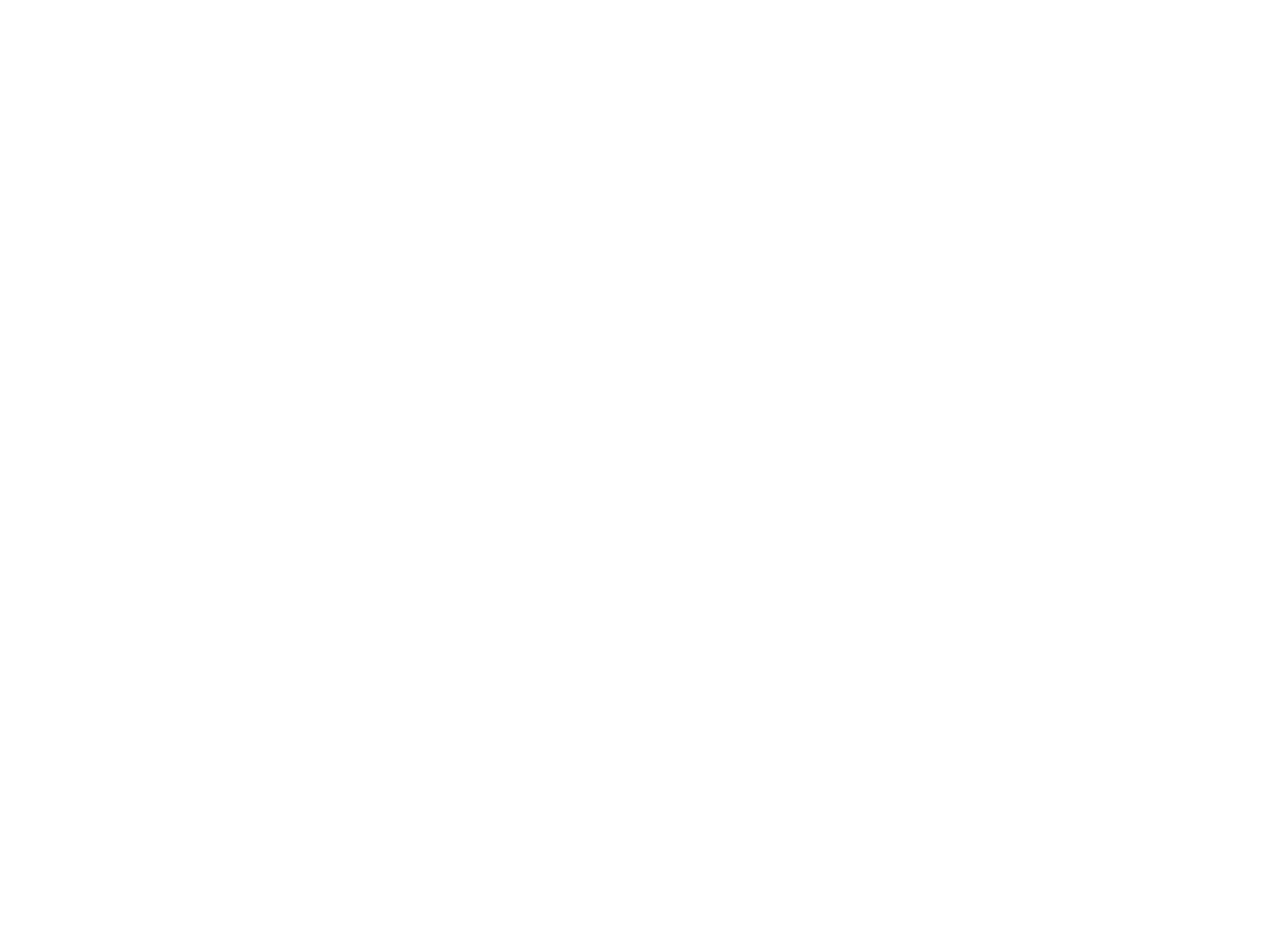
Коллектив кардиохирургической реанимации Свердловской областной клинической больницы №1.
1980 год
1980 год
—Невозможно не спросить: каково было в ковид?
— Два раза болел. Мы работали, но Первая областная больница была единственная в регионе, которая считалась нековидной. Поэтому мы брали всю неотложку из города и из области. Это был кошмар. У меня есть доктор, который пять раз болел. Но я считаю, что мы нормально пережили. Во всяком случае, ковид заставил всех больше уважать санэпидрежим. И я это приветствую. Научили нас ручки мыть, не «целоваться в десна», перчатки менять, и в этом что-то есть. Пережили и пережили. Ковид страшнее, но до этого у нас в 2009 году была свиная пневмония. Тогда я по области гонял на медицине катастроф, пациентов собирал с пневмонией! Это тоже было страшно.
— Медицина катастроф… Какие самые жуткие случаи были, расскажите, пожалуйста.
— В советское время в Областной клинической больнице было отделение плановой и экстренной консультативной помощи. По сути, медицина катастроф — это санитарная авиация. Отделение было в составе больницы. Потом выделили территориальный центр медицины катастроф.
В этом году будет 60 лет нашему отделению. У меня есть фотографии, когда, например, пациента транспортируют вертолетом Ми-2, а люлька, в которой лежит пациент, вне кабины, и анестезиолог, высунув руку, проверяет пульс пациента. Как только не возили пациентов! В тамбурах поездов, на всех вертолетах. Я помню, как вывозил из Буланаша (поселок в Артемовском городском округе — прим. ред.) горняка с хронической сердечной недостаточностью: пациент только сидеть мог. На Ми-2 в середине бак для горючки, и этот дядька сидел на баке, потому что лежать нельзя было, а я вокруг него скакал и шприцем ему в вену на шее кордиамин вводил, чтобы у него дыхание не остановилось.
Сейчас это целая организация — Территориальный центр медицины катастроф. Медицинская организация Свердловской области. По всей стране ездят. Сейчас это хорошо структурированная организация, имеющая медицинские информационные системы, возможности телеконсультаций, специалисты хорошие, санитарный транспорт хорошо оборудован. Мы летали раньше на Ми-8. Ми-8 — это как автобус, МИ-2 — это помойка, просто как «Запорожец» с винтом. Потом летали на «Бэллах», английские отличные машины. Сейчас летаем на «Ансатах». Казань делает.
В этом году будет 60 лет нашему отделению. У меня есть фотографии, когда, например, пациента транспортируют вертолетом Ми-2, а люлька, в которой лежит пациент, вне кабины, и анестезиолог, высунув руку, проверяет пульс пациента. Как только не возили пациентов! В тамбурах поездов, на всех вертолетах. Я помню, как вывозил из Буланаша (поселок в Артемовском городском округе — прим. ред.) горняка с хронической сердечной недостаточностью: пациент только сидеть мог. На Ми-2 в середине бак для горючки, и этот дядька сидел на баке, потому что лежать нельзя было, а я вокруг него скакал и шприцем ему в вену на шее кордиамин вводил, чтобы у него дыхание не остановилось.
Сейчас это целая организация — Территориальный центр медицины катастроф. Медицинская организация Свердловской области. По всей стране ездят. Сейчас это хорошо структурированная организация, имеющая медицинские информационные системы, возможности телеконсультаций, специалисты хорошие, санитарный транспорт хорошо оборудован. Мы летали раньше на Ми-8. Ми-8 — это как автобус, МИ-2 — это помойка, просто как «Запорожец» с винтом. Потом летали на «Бэллах», английские отличные машины. Сейчас летаем на «Ансатах». Казань делает.
— Вы у истоков медицины катастроф на Урале стояли, получается?
— Нет конечно. Я ведь еще молодой. Летали ветераны Свердловской областной клинической больницы Вячеслав Петрович Базылев, Виктор Васильевич Абызов, Борис Петрович Хмелев и другие. Я просто летал и до сих пор, если зовут, летаю. Когда они кого-то не могут вывезти, они мне звонят: «Александр Львович, может, вы с нами слетаете? Вот у нас там есть пациент». «Погнали!»
В последний раз я вывозил беременную женщину из Тагила. Мне потом пилот сказал, что у этого вертолета хвост отпал при взлете, никто не пострадал. Да много чего было! Я и в снег прыгал с вертолета. Другие были у истоков этого дела, но я много летал. Однажды летели в Краснотурьинск. Мне пилот говорит, мол, хотите вертолетом поуправлять. Я ему говорю: «Боже упаси! У каждого своя работа. А ты потом полечить попросишь кого-нибудь вместо меня».
В 2000 году благодаря губернаторской программе и Территориальному фонду обязательного медицинского страхования (ТФОМС) была принята программа «Медицинская помощь на интенсивном этапе лечения». 2000 год — время мерзопакостное, финансирования практически нет. Директором ТФОМС был Борис Исаакович Чарный, классный дядька. Под эту программу мы сделали трехэтапную систему оказания медицинской помощи. Вспомнил Красную армию, когда была трехэтапная система: медпомощь на поле боя, медсанбат или полковой медицинский пункт и дальше либо госпиталь фронтовой, либо тыловой. И также мы создали эту систему: ЦРБ (районная больница), дальше городская больница, если есть, и дальше область. И связующим звеном — Центр медицины катастроф. Более того, мы разработали систему оценки. У меня патент есть на это дело — систему оценки тяжести реанимационных пациентов. И в зависимости от количества баллов по этой шкале решали, пациент транспортабельный или нет. И более того, мы посмотрели сейчас, там выборка была 150 тысяч пациентов, и оказалось, что при оценке по этой системе летальность у оставленных пациентов ниже, чем у тех пациентов, которых мы тащили. При этой разработанной системе практически, тьфу-тьфу-тьфу (стучит по столу), у нас нет случаев за последние -дцать годов смерти в санитарном транспорте.
В последний раз я вывозил беременную женщину из Тагила. Мне потом пилот сказал, что у этого вертолета хвост отпал при взлете, никто не пострадал. Да много чего было! Я и в снег прыгал с вертолета. Другие были у истоков этого дела, но я много летал. Однажды летели в Краснотурьинск. Мне пилот говорит, мол, хотите вертолетом поуправлять. Я ему говорю: «Боже упаси! У каждого своя работа. А ты потом полечить попросишь кого-нибудь вместо меня».
В 2000 году благодаря губернаторской программе и Территориальному фонду обязательного медицинского страхования (ТФОМС) была принята программа «Медицинская помощь на интенсивном этапе лечения». 2000 год — время мерзопакостное, финансирования практически нет. Директором ТФОМС был Борис Исаакович Чарный, классный дядька. Под эту программу мы сделали трехэтапную систему оказания медицинской помощи. Вспомнил Красную армию, когда была трехэтапная система: медпомощь на поле боя, медсанбат или полковой медицинский пункт и дальше либо госпиталь фронтовой, либо тыловой. И также мы создали эту систему: ЦРБ (районная больница), дальше городская больница, если есть, и дальше область. И связующим звеном — Центр медицины катастроф. Более того, мы разработали систему оценки. У меня патент есть на это дело — систему оценки тяжести реанимационных пациентов. И в зависимости от количества баллов по этой шкале решали, пациент транспортабельный или нет. И более того, мы посмотрели сейчас, там выборка была 150 тысяч пациентов, и оказалось, что при оценке по этой системе летальность у оставленных пациентов ниже, чем у тех пациентов, которых мы тащили. При этой разработанной системе практически, тьфу-тьфу-тьфу (стучит по столу), у нас нет случаев за последние -дцать годов смерти в санитарном транспорте.
— Александр Львович, у вас есть награды?
— Заслуженного врача дали за пересадку сердца. Обычно дают вкупе за что-то. Есть медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Это дали уже не помню за что. «Лучший врач России» в 2012 году. Это конкурс был.

Вручение государственной награды Александру Левиту Эдуардом Росселем
— Приятно получать награды?
— Награды? Я человек умеренно амбиционный. Мне больше приятно, когда встречаю пациента в больнице, тот улыбается и говорит, что выписывают и благодарит. Все! Вот это так приятно! А награды…
—А были больные, которых вы до сих пор помните?
— Конечно! Я многих помню. Помню одного пациента, он работал на заводе эбонитовых изделий. У нас же был период клещевого энцефалита, и в тот год было 12 человек с клещевым энцефалитом, которым одновременно проводилась искусственной вентиляции легких. Это был конец 1980-х. И вот этот самый пациент был на ИВЛ 186 дней. И когда я его отлучил от вентилятора, пациент не мог спать, если не слышал звук аппарата. И я дал ему домой аппарат искусственной вентиляции легких. Они включали аппарат, и пациент под звук работающего аппарата засыпал.
Помню, и до сих пор курирую, мальчика из области, который к нам поступил 15 лет назад. По сути, он «овощ», как говорят в народе. Парня избили. У него было тяжелое сотрясение мозга с гематомами в голове. Мы его вытащили. Но он глубокий инвалид. Мы до сих пор созваниваемся с его матерью. Родители — героические люди.
Помню, и до сих пор курирую, мальчика из области, который к нам поступил 15 лет назад. По сути, он «овощ», как говорят в народе. Парня избили. У него было тяжелое сотрясение мозга с гематомами в голове. Мы его вытащили. Но он глубокий инвалид. Мы до сих пор созваниваемся с его матерью. Родители — героические люди.
— Были ли благодарности в виде приглашений на какие-нибудь мероприятия?
— Да, конечно. У меня в друзьях был главный дирижер нашей Филармонии Андрей Чистяков (с 1988 по 2000 год главный дирижер Большого театра в Москве, начинал свою деятельность в Свердловске — прим. ред.), которого Архипова увезла в Москву. Известный уральский композитор Кобекин (Владимир Александрович Кобекин, преподаватель Уральской государственной консерватории — прим. ред.), который, когда мы выпивали, говорил, что Бородин две оперы написал, а он — восемь. Ну, мы ржали, конечно. У нас хорошие отношения с Нодельманом, который в Музкомедии (Борис Нодельман, музыкальной руководитель Свердловской музкомедии — прим. ред.). Хорошие отношения с Тителем (Александр Борухович Титель, оперный дирижер — прим. ред.), с Лешей Бадаевым (Алексей Бадаев, драматург, режиссер Свердловского театра драмы — прим. ред.), с Георгием Александровичем Негашевым (директор Свердловской киностудии с 1994 по 2003 год, режиссер — прим. ред.). Я даже уже не помню, как мы познакомились.
— А есть ли сейчас научная тусовка, как, например, те, которые собирал Николай Тимофеев-Ресовский?
— Вы знаете, наверное, это уже больше в прошлом, потому что раньше ученые были вроде Леонардо да Винчи. Сейчас более узкая специализация. Даже в медицине есть куча направлений, которые не стыкуются.
— Вы ведь учились у Валерия Яковлевича Изакова?
— Да, Изаков у нас вел группу в институте. Очень интеллигентный человек. Он дифференцировано подходил к нам студиозам. Он прекрасно понимал, что нам надо для того, чтобы сдать экзамен, и что нам надо для общего развития, и никогда не требовал того, что не знал сам.
С Владимиром Семеновичем Мархасиным мы непосредственно общались, потому что он нам был ближе. Изаков был больше теоретик, а Мархасин был все-таки к практической медицине ближе. Они были пионерами в исследовании биофизики миокарда. В 1970-е годы больница № 23 была базой Свердловского областного кардиохирургического центра под руководством профессора Савичевского, моего учителя. И там располагалась лаборатория биофизики миокарда. Милослав Станиславович Савичевский поощрял все эти научные изыскания. Когда переехали в Областную больницу, то для лаборатории биофизики было отдано отдельное здание.
Про Милослава Станиславовича. У него папа был первым секретарем Томского горкома ВКП(б). Во времена террора отца репрессировали. Его мама Людмила Ивановна Савичевская преподавала терапию в старой Областной больнице на Площади Коммунаров. А жил Милослав Станиславович с мамой в Березовском. Видимо, в Свердловске им не разрешили поселиться. И они ездили каждый день: Людмила Ивановна на работу, а он учился в годы войны в медицинском институте. Окончил его, защитил кандидатскую, докторскую и стал заведовать кафедрой хирургии педиатрического факультета. База кафедры была в 23-й больнице на Эльмаше. В этой больнице был организован питерским профессором Сергеем Сергеевичем Соколовым центр кардиохирургии. То есть Свердловский межобластной кардиохирургический центр начинался с 23-й больницы. Сначала им руководил профессор Соколов, а потом руководил Савический.
Я впервые с Савичевским встретился в 1972 году — после окончания института меня распределили в 23-ю больницу. Совершенно интеллигентнейший человек, не выносивший ненормативную лексику. Я его считаю своим учителем. Принципом профессора было публиковать только то, что им просмотрено и одобрено. Это был человек, который, на мой взгляд, признавал только прикладную науку, то есть то, что будет полезно для населения, для здоровья. Человек, который пользовался уважением во всем Советском Союзе — от Каунаса до Владивостока. Я стажировался и в институте Мешалкина в Новосибирске (Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина — прим. ред.), и в Каунасе (Литва), и в Бакулевском институте в Москве (ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева — прим. ред.).И везде имя Савичевского всегда что-то значило.
Есть история, как я пришел к Савичевскому писать диссертацию. Меня интересовали вопросы кардиоанестезиологии: особенности анестезии у пациентов старшего возраста, обеспечение безопасности при операциях в условиях гипотермии. У меня был набран материал по закрытым операциям на митральном клапане у пожилых. А в этот период мы осваивали протезирование клапанов с использованием искусственного кровообращения. Савичевский помолчал, а потом объяснил, что в настоящее время задача клиники улучшить результаты операций по клапанному протезированию и исследование должно этому помочь. Я понимал его как руководителя, несмотря на то, что кандидатом наук я стал примерно года на четыре позже, чем предполагал.
Савический был «слухач»: пороки сердца слышал идеально, лучше любого аппарата. И как все великие хирурги мог оперировать все: резекцию желудка делал, на сердце операции делал. Он был идеальным человеком. На конференции не любил ездить, потому что не любил он банкеты. Был непьющим человеком. Мама его Людмила Ивановна работала врачом в санитарном поезде во время войны. Они вывозили раненых от госпиталей прифронтовой полосы в тыловые госпитали. И она его с собой возила мальчишкой в этом поезде. Думаю, это и определило его выбор профессии. Савический был глубоко уважаемым человеком с точки зрения коллег, студентов. Умер скоропостижно от тромбоэмболии дома в пожилом возрасте.
С Владимиром Семеновичем Мархасиным мы непосредственно общались, потому что он нам был ближе. Изаков был больше теоретик, а Мархасин был все-таки к практической медицине ближе. Они были пионерами в исследовании биофизики миокарда. В 1970-е годы больница № 23 была базой Свердловского областного кардиохирургического центра под руководством профессора Савичевского, моего учителя. И там располагалась лаборатория биофизики миокарда. Милослав Станиславович Савичевский поощрял все эти научные изыскания. Когда переехали в Областную больницу, то для лаборатории биофизики было отдано отдельное здание.
Про Милослава Станиславовича. У него папа был первым секретарем Томского горкома ВКП(б). Во времена террора отца репрессировали. Его мама Людмила Ивановна Савичевская преподавала терапию в старой Областной больнице на Площади Коммунаров. А жил Милослав Станиславович с мамой в Березовском. Видимо, в Свердловске им не разрешили поселиться. И они ездили каждый день: Людмила Ивановна на работу, а он учился в годы войны в медицинском институте. Окончил его, защитил кандидатскую, докторскую и стал заведовать кафедрой хирургии педиатрического факультета. База кафедры была в 23-й больнице на Эльмаше. В этой больнице был организован питерским профессором Сергеем Сергеевичем Соколовым центр кардиохирургии. То есть Свердловский межобластной кардиохирургический центр начинался с 23-й больницы. Сначала им руководил профессор Соколов, а потом руководил Савический.
Я впервые с Савичевским встретился в 1972 году — после окончания института меня распределили в 23-ю больницу. Совершенно интеллигентнейший человек, не выносивший ненормативную лексику. Я его считаю своим учителем. Принципом профессора было публиковать только то, что им просмотрено и одобрено. Это был человек, который, на мой взгляд, признавал только прикладную науку, то есть то, что будет полезно для населения, для здоровья. Человек, который пользовался уважением во всем Советском Союзе — от Каунаса до Владивостока. Я стажировался и в институте Мешалкина в Новосибирске (Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина — прим. ред.), и в Каунасе (Литва), и в Бакулевском институте в Москве (ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева — прим. ред.).И везде имя Савичевского всегда что-то значило.
Есть история, как я пришел к Савичевскому писать диссертацию. Меня интересовали вопросы кардиоанестезиологии: особенности анестезии у пациентов старшего возраста, обеспечение безопасности при операциях в условиях гипотермии. У меня был набран материал по закрытым операциям на митральном клапане у пожилых. А в этот период мы осваивали протезирование клапанов с использованием искусственного кровообращения. Савичевский помолчал, а потом объяснил, что в настоящее время задача клиники улучшить результаты операций по клапанному протезированию и исследование должно этому помочь. Я понимал его как руководителя, несмотря на то, что кандидатом наук я стал примерно года на четыре позже, чем предполагал.
Савический был «слухач»: пороки сердца слышал идеально, лучше любого аппарата. И как все великие хирурги мог оперировать все: резекцию желудка делал, на сердце операции делал. Он был идеальным человеком. На конференции не любил ездить, потому что не любил он банкеты. Был непьющим человеком. Мама его Людмила Ивановна работала врачом в санитарном поезде во время войны. Они вывозили раненых от госпиталей прифронтовой полосы в тыловые госпитали. И она его с собой возила мальчишкой в этом поезде. Думаю, это и определило его выбор профессии. Савический был глубоко уважаемым человеком с точки зрения коллег, студентов. Умер скоропостижно от тромбоэмболии дома в пожилом возрасте.
— А еще с какими учеными были знакомы? С Исааком Яковлевичем Постовским?
—Я лично не знал Постовского. Но всю историю про него и его жену Амалию знаю от сестры. Сестра работает в Институте органического синтеза Уральского отделения Академии наук в лаборатории, которая занимается лекарствами. И от нее о Постовском я много слышал. А у одной моей коллеги бабушка Наталья Павловна Беднягина работала с Постовским. Была его любимой ученицей. Была профессором на кафедре в УПИ и работала с Постовским до его смерти. Она дожила до 90 лет, была известным химиком.
— Ведь у вас жена тоже медик? Детский врач?
— Марина — неонатолог, всю жизнь проработала в роддоме. Она окончила ординатуру в ОММ и работала в 21-й больнице с новорожденными.
— Изменились методы работы с новорожденными?
— Я в этом мало понимаю. Но сейчас изменилось отношение к тому, живой плод или не живой. Сейчас считается, что если плод более 500 граммов, то ребенок живой. У нас сын Димка родился 1 килограмм 700 граммов. Марина дежурила без отдыха, я ее на руках в родовую затащил в ОММ. 40 дней Димка находился в отделении новорожденных ИОММ. Когда его привезли домой, мой папа чуть в обморок не упал, когда развернули пеленки. А сейчас вырос большой и красивый. Первой у нас родилась дочка Наташенька.
Дети маленькие, и жена ушла из ОММ. Пошла преподавать педиатрию в Медицинском училище Свердловской железной дороги. У железнодорожников своя медицинская служба.
Дети маленькие, и жена ушла из ОММ. Пошла преподавать педиатрию в Медицинском училище Свердловской железной дороги. У железнодорожников своя медицинская служба.
— Александр Львович, вам не хотелось уехать жить в другой город?
— Никогда. Наш город — это сплошная эклектика. Можно оставить старые усадьбы в покое, а не втыкать свечки? О чем думают городские власти? Свердловск, конечно, не Рим, где запрещено строить в центре, но можно хотя бы центр города оставить в покое, конструктивизм не трогать. Дома в стиле модерн не заслонять новыми застройками. Надо думать, что мы оставим людям.
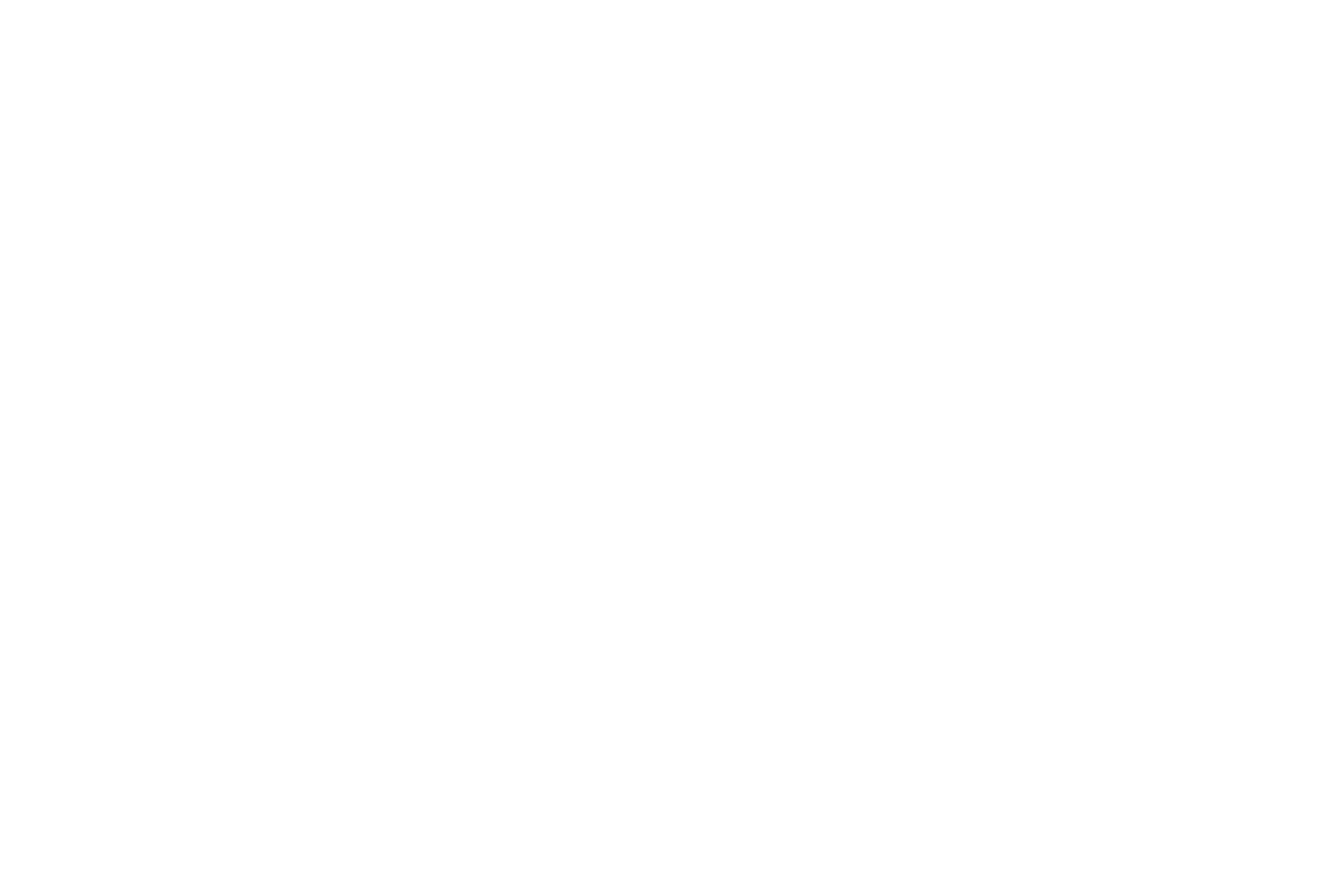
Александр Левит в пространстве выставки «Наука в большом городе» Музея истории Екатеринбурга.
2024 год
2024 год
