Посвящение в студенты: вино из одуванчиков
Интервью с Татьяной Кругловой
Беседовала: Ирина Нечаева
Фото из личного архива Т.А. Кругловой
Татьяна Круглова родилась и всю жизнь живет в Свердловске-Екатеринбурге. Доктор философских наук. Училась и работает на философском факультете УрГУ-УрФУ.
Татьяна Анатольевна рассказывает о своей студенческой жизни 1970-х годов: поступлении в университет, учебе, преподавателях, стройотрядах, студенческом театре. Размышляет об особенностях студенчества в разные временные периоды: чем студенчество 1990-х годов отличается от современного студенческого сообщества. Рассказывает, как складывалась ее преподавательская карьера в университете.
Татьяна Анатольевна рассказывает о своей студенческой жизни 1970-х годов: поступлении в университет, учебе, преподавателях, стройотрядах, студенческом театре. Размышляет об особенностях студенчества в разные временные периоды: чем студенчество 1990-х годов отличается от современного студенческого сообщества. Рассказывает, как складывалась ее преподавательская карьера в университете.
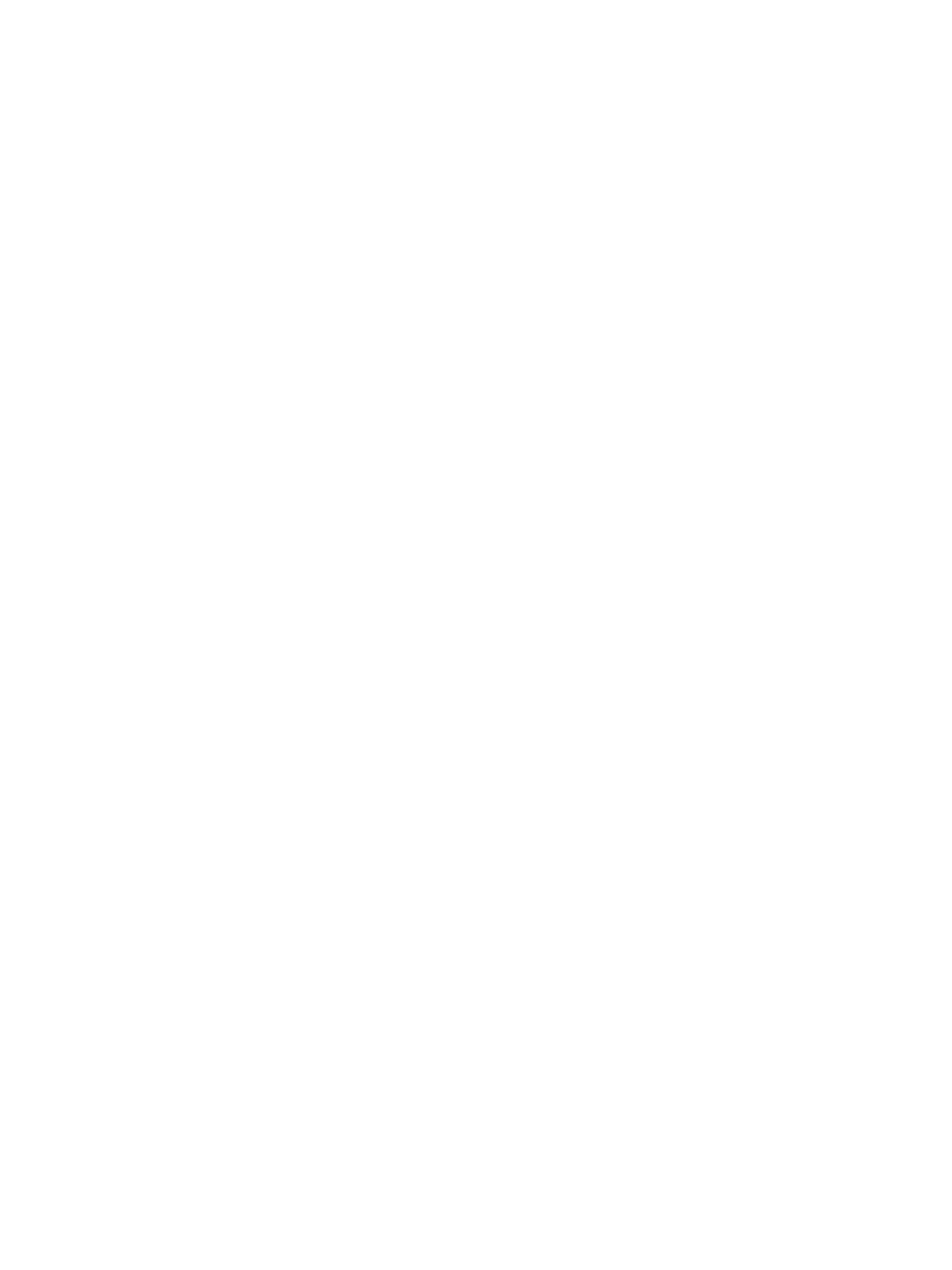
Татьяна Круглова
— Расскажите, пожалуйста, про ваше детство.
— Я в Железнодорожном районе Свердловска родилась, здесь мои родители жили в квартире моего деда, который был тогда на пенсии. А до этого дед был прокурором Железнодорожного района.
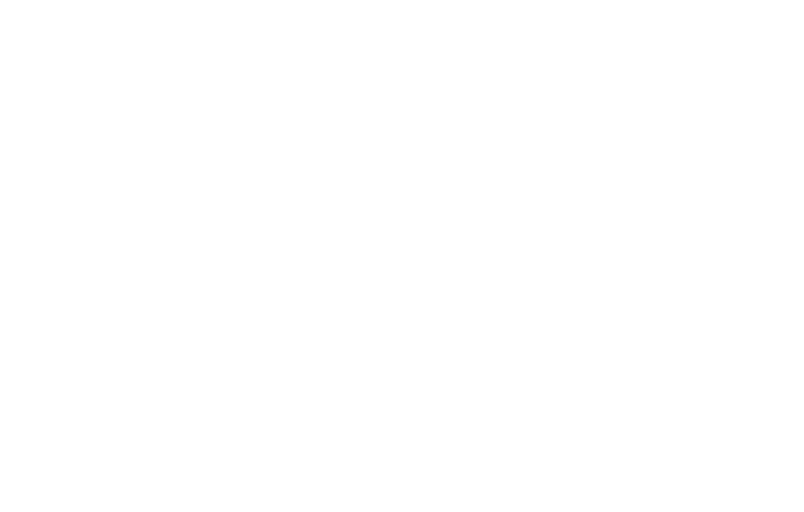
Круглов Семён Анфилогиевич с внучками. Таня слева. 1958 г.
Мама работала в железнодорожной больнице, а папа — на заводе имени Калинина. Учиться я пошла тоже во вторую железнодорожную школу, потому что жила на улице Челюскинцев. Сейчас это школа № 155. Эту школу оканчивали мои родители еще до Отечественной войны. Они были одноклассниками. Моя старшая сестра тоже оканчивала эту школу, а потом и моя очередь настала. И так получалось, что в этом районе у всех были родители, которые либо работали в управлении дороги, либо были учителями в железнодорожных школах, либо сотрудниками в железнодорожной больнице, либо в железнодорожном институте или техникуме.
Окончила я вторую школу, никуда не переходила. Где-то в классе 9-м к нам по профориентации приходили люди и рассказывали про разные институты. И про философский факультет рассказали, который существовал на тот момент лет восемь. Я очень заинтересовалась.
При философском факультете был клуб юных марксистов — КУЮМ. Вечерами школьники туда приходили, приглашали преподавателей, проводили всякие лекции, беседы и дискуссии. В общем, мне это ужасно понравилось. Я в клуб весь год в десятом классе ходила, и после разных колебаний решила поступать на философский.
Но я еще была театроманка. Когда изредка в город приезжали с гастролями какие-нибудь крупные московские или ленинградские театры, то весь город стоял на ушах. И так совпало, что когда приезжал знаменитый БДТ (Большой драматический театр — прим. ред.) из Ленинграда, которым Товстоногов руководил и который я обожала по книжкам, шли вступительные экзамены в университет. И нужно было ночами стоять и дежурить в очередях, чтобы купить билеты на спектакли. И я стояла в очередях, ночевала и дежурила, у меня еще, помню, украли деньги.
Короче говоря, я сдала экзамен по истории на тройку. Конкурс был очень большой, и я на дневное не поступила, хотя у меня была почти золотая медаль. Я очень хорошо училась, и поэтому я пошла на вечернее в этот же год, чтобы не терять время. Параллельно работала санитаркой в железнодорожной больнице у мамы.
Год я проучилась на вечернем отделении, потом перешла на дневное без потери курса. Для этого я должна была за полтора месяца досдать 17 предметов. На втором курсе к ноябрьским праздникам я их сдала. И поэтому я училась четыре года и выпустилась с тем же курсом, на который поступили ровесники. Окончила я в 1978 году.
Окончила я вторую школу, никуда не переходила. Где-то в классе 9-м к нам по профориентации приходили люди и рассказывали про разные институты. И про философский факультет рассказали, который существовал на тот момент лет восемь. Я очень заинтересовалась.
При философском факультете был клуб юных марксистов — КУЮМ. Вечерами школьники туда приходили, приглашали преподавателей, проводили всякие лекции, беседы и дискуссии. В общем, мне это ужасно понравилось. Я в клуб весь год в десятом классе ходила, и после разных колебаний решила поступать на философский.
Но я еще была театроманка. Когда изредка в город приезжали с гастролями какие-нибудь крупные московские или ленинградские театры, то весь город стоял на ушах. И так совпало, что когда приезжал знаменитый БДТ (Большой драматический театр — прим. ред.) из Ленинграда, которым Товстоногов руководил и который я обожала по книжкам, шли вступительные экзамены в университет. И нужно было ночами стоять и дежурить в очередях, чтобы купить билеты на спектакли. И я стояла в очередях, ночевала и дежурила, у меня еще, помню, украли деньги.
Короче говоря, я сдала экзамен по истории на тройку. Конкурс был очень большой, и я на дневное не поступила, хотя у меня была почти золотая медаль. Я очень хорошо училась, и поэтому я пошла на вечернее в этот же год, чтобы не терять время. Параллельно работала санитаркой в железнодорожной больнице у мамы.
Год я проучилась на вечернем отделении, потом перешла на дневное без потери курса. Для этого я должна была за полтора месяца досдать 17 предметов. На втором курсе к ноябрьским праздникам я их сдала. И поэтому я училась четыре года и выпустилась с тем же курсом, на который поступили ровесники. Окончила я в 1978 году.
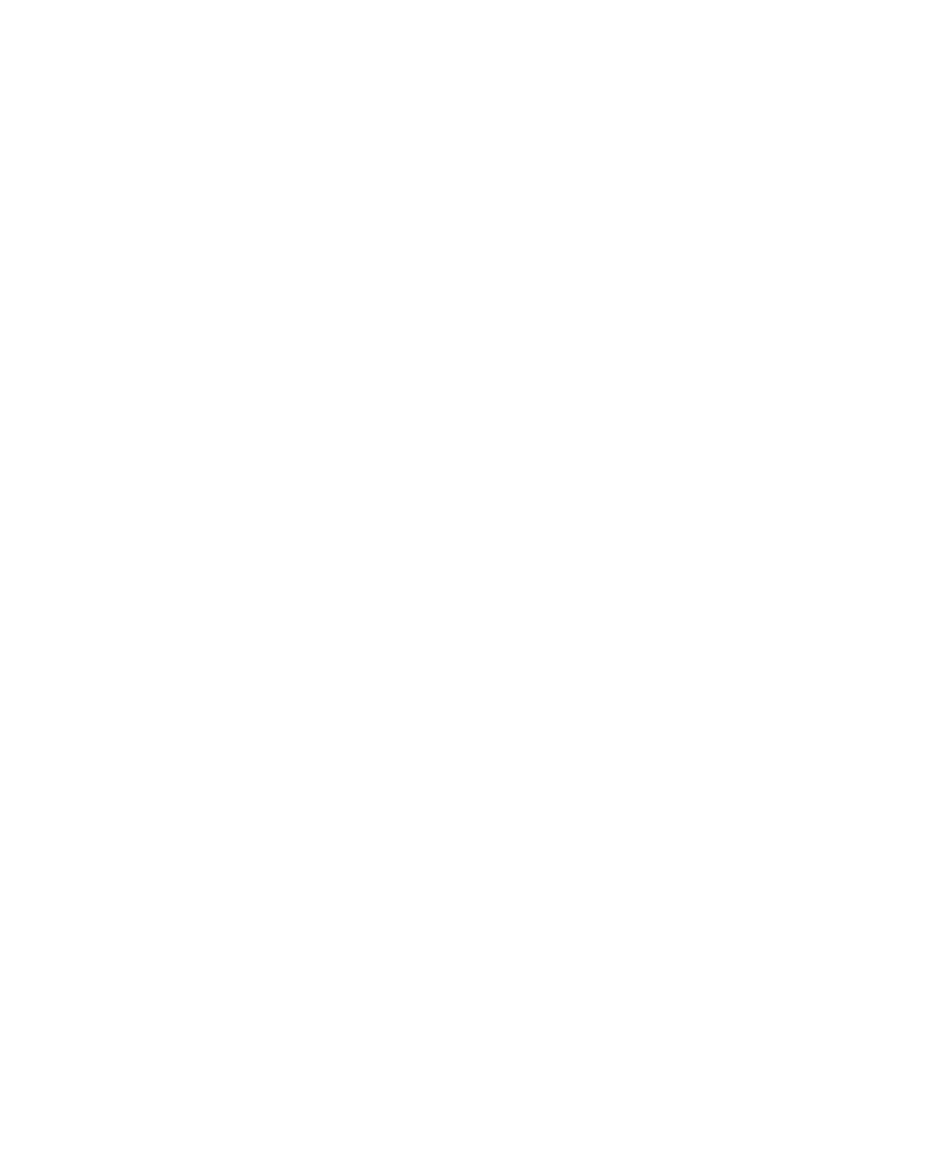
Школьница Таня Круглова.
1970 г.
1970 г.
— А что за спектакль, за билетами на который вы стояли ночью в очереди перед вступительным экзаменом? Помните?
— Да я могу просто сказать, что они привозили. Это был 1973 год. БДТ привозили «Мещан», они привозили спектакль «Цена» по Артуру Миллеру, в котором Сергей Юрский играл. Показывали спектакли на двух площадках: в Оперном театре и в старом здании Драмтеатра. И я на два спектакля попала.
— Высшее образование было принято в семье получать?
— Нет. Родители моих родителей были почти неграмотные: они родились в конце XIX века. Один был рабочий, другой из крестьян.
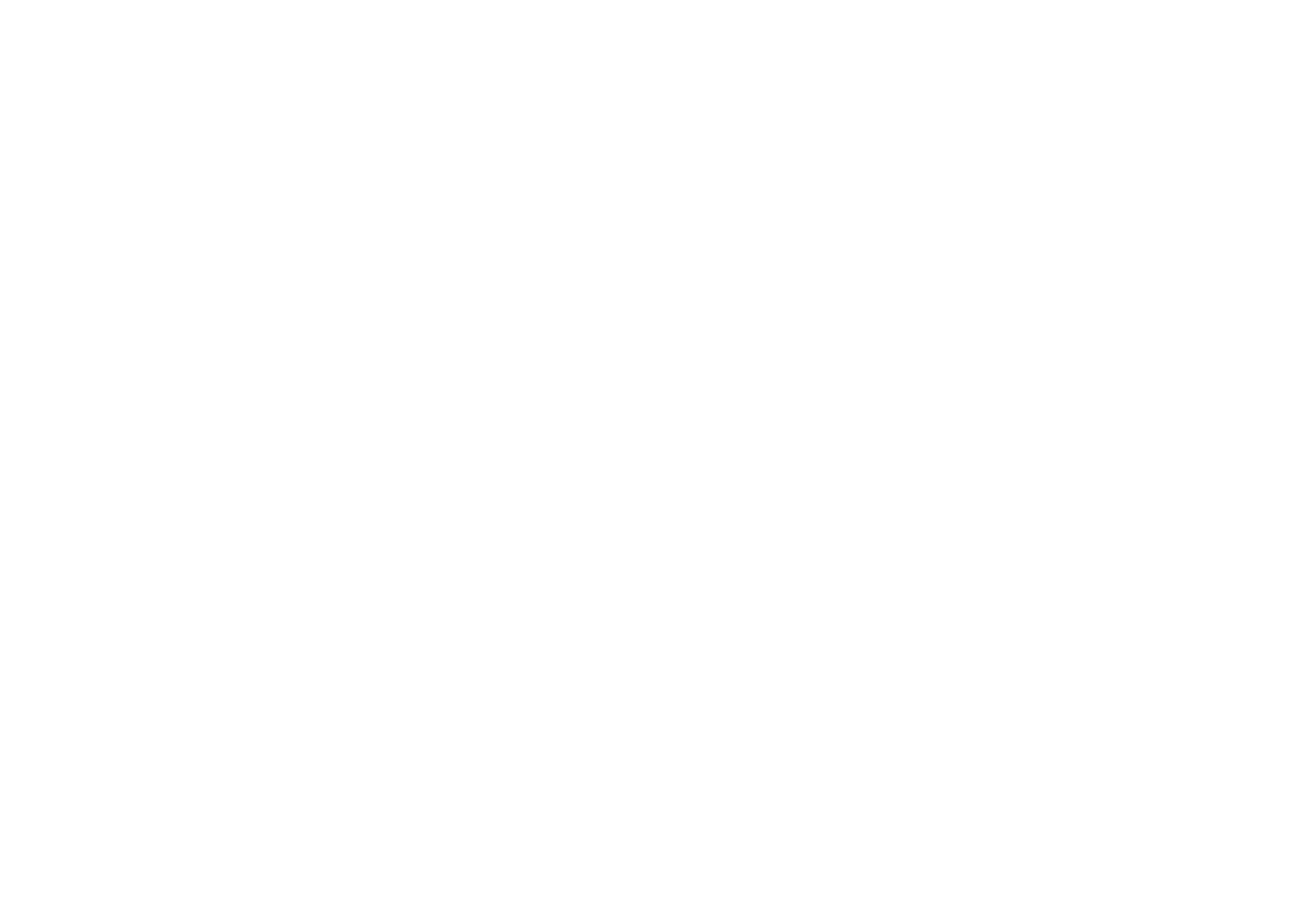
Чистов Андрей Осипович (первый слева во втором ряду) с семьей. Мама, Тамара Чистова (в девичестве), во втором ряду крайняя справа. 1939 г.
— То есть дедушка прокурор был из...
— Из крестьян, да, из деревни под Ярославлем. У одного дедушки по маминой линии, которого репрессировали, образование было церковно-приходская школа 4 класса, он работал машинистом (дедушку по маминой линии звали Чистов Андрей Осипович — прим. ред.) Бабушка вообще неграмотная, была на хозяйстве, поскольку в семье было 7 или 8 детей. Вот другой дедушка по папиной линии (Круглов Семен Анфилогиевич — прим. ред.) выбился в люди, стал прокурором. У него тоже какое-то было образование, как у многих тогда. Это даже не красная профессура (Институт красной профессуры, высшее заведение ЦК ВКП — прим. ред.), а какие-то бесконечные курсы. Его жена, папина мама, она тоже была неграмотная крестьянка, которая чуть-чуть только грамотой владела. А мои родители уже получили высшее образование.
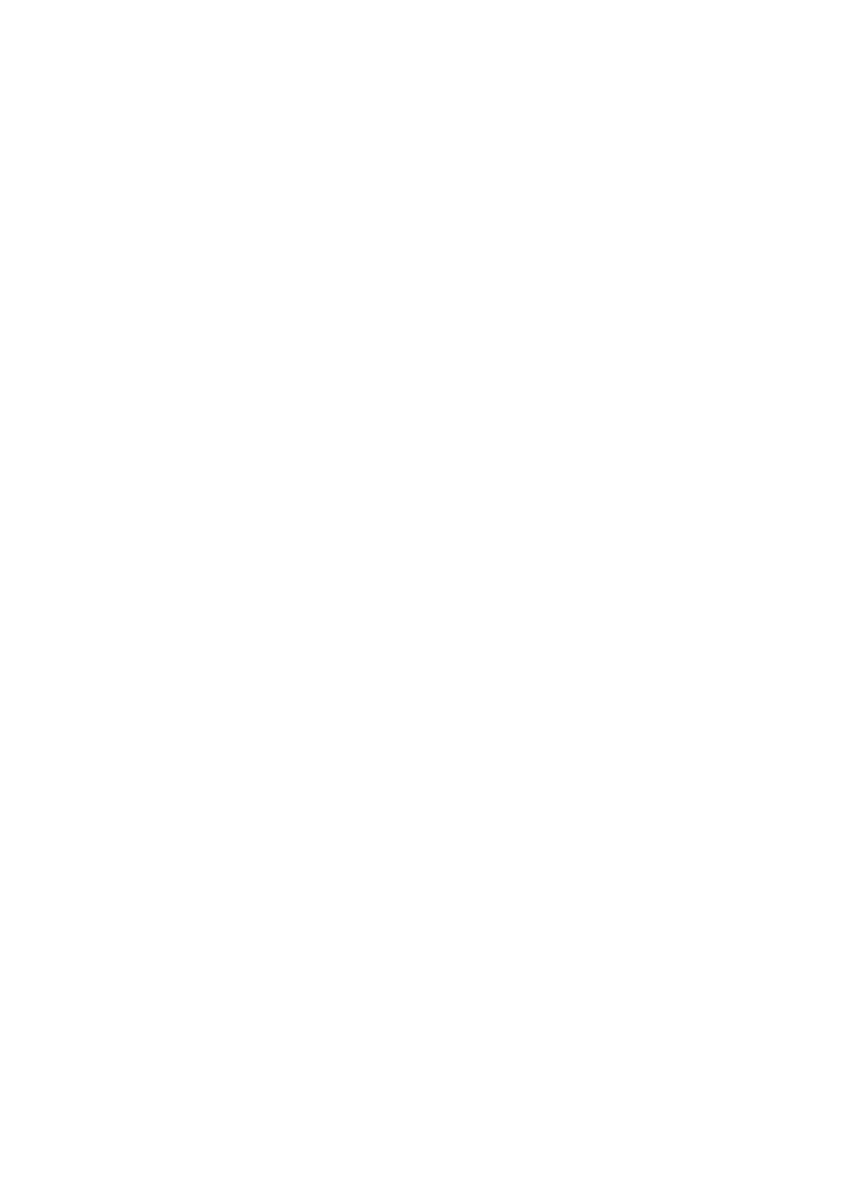
Чистов Андрей Осипович, дед по материнской линии
— Где учились ваши родители?
— Мама начинала учиться в Свердловске в годы войны, а потом в Пермь переехала и там заканчивала. Она из Пермской области и родители у нее оттуда, поэтому поехала учиться ближе к родным, чтобы хотя бы подкормиться во время войны. Здесь, в Свердловске, она два раза бросала институт: постоянно были головокружения от голода. И поэтому она поехала в Пермь, там под Пермью жила старшая сестра, которая работала. И на ее рабочую карточку они с младшей сестрой, с которой учились в мединституте, могли хоть как-то кормиться, и картошку им старшая сестра возила. Папа окончил институт после войны, он всю войну воевал с первого дня до последнего. Он окончил УПИ, механический факультет.
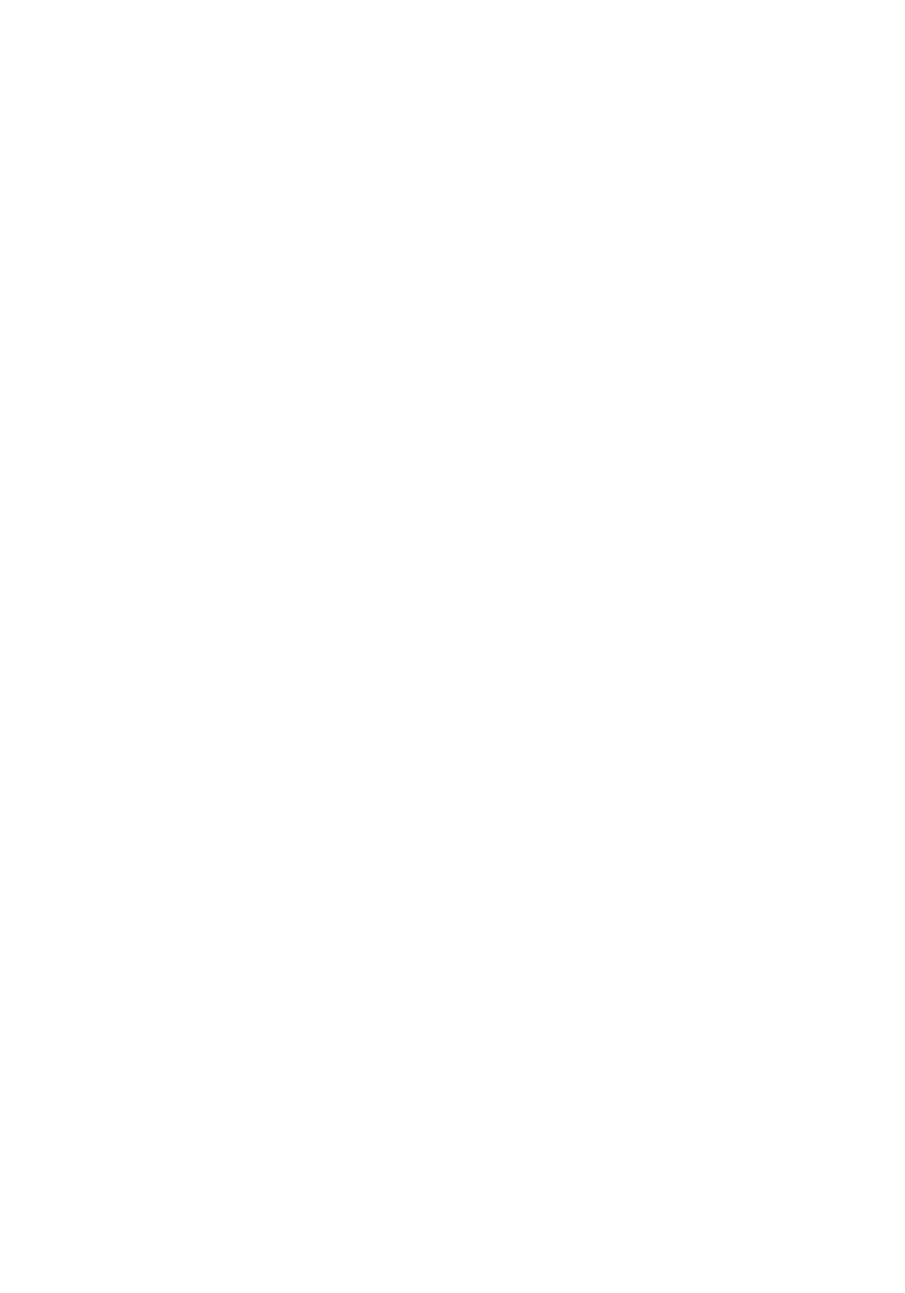
Родители Анатолий Семенович и Тамара Андреевна Кругловы.
1951 г.
1951 г.
— А в каких войсках воевал папа?
— Он воевал солдатом и сержантом, был танкистом-радистом. Он довольно много раз был ранен, но, слава Богу, ничего такого жизненно важного не повредили. Но в госпиталях он провел где-то больше года в общей сложности и комиссован был уже осенью 1945 года.
Он дошел до Польши и был даже каким-то комендантом в Западной Украине в течение нескольких месяцев.
Он дошел до Польши и был даже каким-то комендантом в Западной Украине в течение нескольких месяцев.
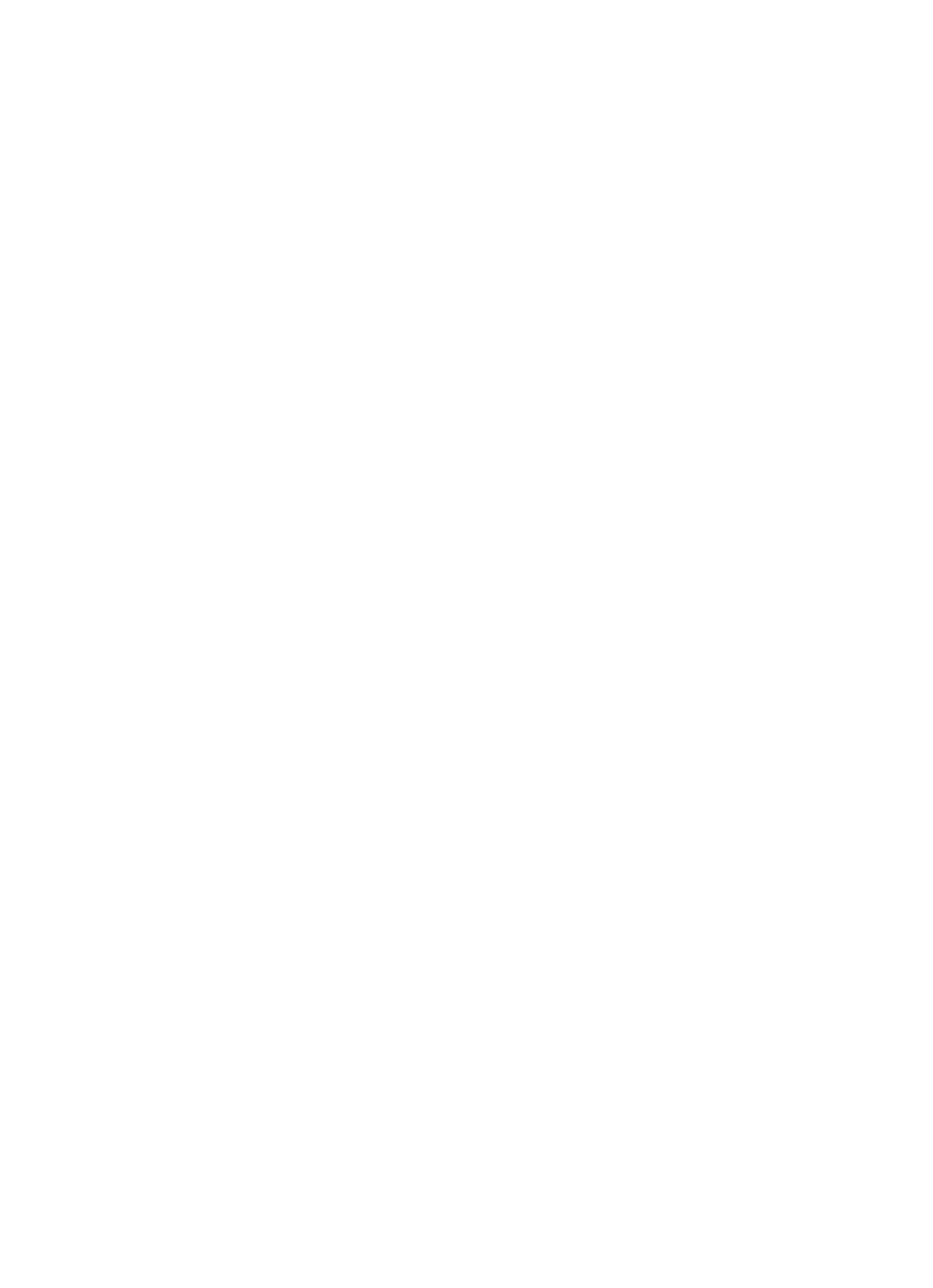
Отец Круглов Анатолий Семёнович в послевоенные годы
— Как зовут ваших родителей?
— Папа Анатолий Семенович Круглов. Я ношу его фамилию. У мамы другая фамилия. Мама Чистова Тамара Андреевна. Потом она тоже стала Кругловой. Я осталась, выйдя замуж, по фамилии папы, то есть единственная осталась в семье Круглова, потому что моя сестра тоже взяла фамилию мужа.
— У вас была цель сохранить фамилию?
Ну да, мне как-то хотелось, и папа хотел, в общем, никто сильно не настаивал, муж был не против, мне моя фамилия нравилась. В общем, мои родители оба были с высшим образованием. Но дело даже не в том, кто были родители. В то время, в 1970-е годы, было принято поступать в вуз. И не поступить в вуз было очень обидно. Тем более я хорошо училась.
Меня в школе прямо перехваливали. В общем, и медаль мне не дали в самом конце. Мне потом сказали, что была какая-то разнарядка на медали, нашли ошибку по математике в работе небольшую. Хотя уже было объявлено, что пятерка. Меня уже дома стали поздравлять с медалью. Но потом где-то там отправили в район проверять, и там поставили четверку.
Я не особо расстроилась. Потом я даже рада была, потому что медалисты сдавали только один экзамен. И на философском таким экзаменом была история. И как раз ее я и сдала на тройку. Я подумала, что хоть школу не подвела. Остальные экзамены я сдала хорошо, но мне все равно не хватило балла.
В то время конкурса было два: один для школьников балл был проходной, а другой проходной балл был гораздо ниже для тех, кто после армии либо у кого было два года трудового стажа. Конкурс был довольно большой для школьников. И тогда довольно много поступало людей не после школы. Вот, например, на нашем курсе в 100 человек после школы училось всего человек 13–15. Остальные все были, как тогда говорили, либо рабфаковцы (рабфаковцы — студенты рабочих факультетов, которые готовили рабочих и молодежь из сельской местности к поступлению в вузы — прим. ред.), либо после армии, либо так называемые стажисты. Некоторые девочки-отличницы поступали по 2–3 года. Это было нормой. Но все равно поступали. У нас в классе тоже в конце концов высшее образование получили почти все. Некоторые не сразу, после армии, заочно, но тогда было принято получать высшее образование.
Меня в школе прямо перехваливали. В общем, и медаль мне не дали в самом конце. Мне потом сказали, что была какая-то разнарядка на медали, нашли ошибку по математике в работе небольшую. Хотя уже было объявлено, что пятерка. Меня уже дома стали поздравлять с медалью. Но потом где-то там отправили в район проверять, и там поставили четверку.
Я не особо расстроилась. Потом я даже рада была, потому что медалисты сдавали только один экзамен. И на философском таким экзаменом была история. И как раз ее я и сдала на тройку. Я подумала, что хоть школу не подвела. Остальные экзамены я сдала хорошо, но мне все равно не хватило балла.
В то время конкурса было два: один для школьников балл был проходной, а другой проходной балл был гораздо ниже для тех, кто после армии либо у кого было два года трудового стажа. Конкурс был довольно большой для школьников. И тогда довольно много поступало людей не после школы. Вот, например, на нашем курсе в 100 человек после школы училось всего человек 13–15. Остальные все были, как тогда говорили, либо рабфаковцы (рабфаковцы — студенты рабочих факультетов, которые готовили рабочих и молодежь из сельской местности к поступлению в вузы — прим. ред.), либо после армии, либо так называемые стажисты. Некоторые девочки-отличницы поступали по 2–3 года. Это было нормой. Но все равно поступали. У нас в классе тоже в конце концов высшее образование получили почти все. Некоторые не сразу, после армии, заочно, но тогда было принято получать высшее образование.
— Философский факультет казался экзотичным выбором для поступления в 1970-е года?
— Да, это было экзотично. Родители не понимали, немножко отговаривали, но не жестко, потому что мама хотела, чтобы я пошла, как она, учиться на врача. Папа был не против, потому что он, хотя и получил техническое образование, у себя на заводе организовал отдел научной организации труда и мыслил скорее как социолог, экономист. Да, это было очень экзотично, невероятно привлекательно и прагматично.
Прагматика была в том, что это была единственная гуманитарная специальность, после которой не надо было идти в школу. Было же государственное распределение. Во-первых, после философского факультета государственное распределение, как нам сказали, гораздо более свободное, не такое жесткое. И во-вторых, люди после философского шли работать только в вузы, потому что философия в высших учебных заведениях была уже везде обязательным предметом с большим количеством часов и была нехватка специалистов.
В условиях научно-технической революции вузы росли как грибы. Очень много было вузов, тем более на Дальнем Востоке и в Сибири росли города, а кадров, преподавателей философии не было вообще. Когда мы туда приезжали с друзьями на практику в 1977 году, я была в Иркутском университете, в крупном городе с большими традициями, но там не было ни одного человека после философского факультета.
Прагматика была в том, что это была единственная гуманитарная специальность, после которой не надо было идти в школу. Было же государственное распределение. Во-первых, после философского факультета государственное распределение, как нам сказали, гораздо более свободное, не такое жесткое. И во-вторых, люди после философского шли работать только в вузы, потому что философия в высших учебных заведениях была уже везде обязательным предметом с большим количеством часов и была нехватка специалистов.
В условиях научно-технической революции вузы росли как грибы. Очень много было вузов, тем более на Дальнем Востоке и в Сибири росли города, а кадров, преподавателей философии не было вообще. Когда мы туда приезжали с друзьями на практику в 1977 году, я была в Иркутском университете, в крупном городе с большими традициями, но там не было ни одного человека после философского факультета.
— А в чем практика заключалась?
— А практика была педагогическая: мы должны были два месяца вести семинары и лекции. Люди к нам присматривались на кафедрах, потом могли прислать приглашение приехать, и очень многие так поехали на работу. Потому что нам предлагались по распределению достаточно крупные города. Уже на город типа Шадринск или Курган наши выпускники могли смотреть сквозь губу. Другое дело, что все эти города были на востоке, потому что регионы по философии были распределены. Ну, например, северо-запад — это Ленинград поставлял философов, Москва — это центральные регионы. Свои философские факультеты были в Прибалтике, на Украине был очень сильный факультет в Киеве, в Грузии тоже был свой философский. Мы распределялись только по РСФСР. Но РСФСР — гигантская территория, и поэтому распределение было довольно большое. Но в основном от Волги и к востоку.
— Какой образ был УрГУ в 1970-х? Насколько он был престижен?
— Я бы не сказала, что у университета был какой-то невероятный престиж. Очень высокий статус был у УПИ (Уральский политехнический институт — прим. ред.): упийцев было очень много. У выпускников УПИ была невероятно высокая самооценка и высокая идентичность. Они считали себя, конечно, самыми крутыми. И для них наш университет все равно был на втором месте.
Как сейчас помню, довольно слабо котировался юридический институт. Непрестижным считался СИНХ (Свердловский институт народного хозяйства — прим. ред.) Все в основном поступали либо в УПИ, либо в УрГУ (Уральский государственный университет — прим. ред.). Либо, раз мы жили в Железнодорожном районе, многие шли в УЭМИИТ (Уральский электромеханический институт инженеров транспорта — прим. ред.) Просто потому, что он рядом, у некоторых там работали родители, была понятна перспектива. Медицинский институт тоже котировался, но считался очень сложным. Был еще архитектурный институт, но он тогда был маленький и очень на любителя.
Стремились в УПИ. В УПИ был огромный выбор профессий. Тем более это же было время заводов, на заводах давали хорошую зарплату, квартиры давали, социальную поддержку. И большинство родителей считали, что если уж идти, то в УПИ: за ребенка можно быть спокойным.
Как сейчас помню, довольно слабо котировался юридический институт. Непрестижным считался СИНХ (Свердловский институт народного хозяйства — прим. ред.) Все в основном поступали либо в УПИ, либо в УрГУ (Уральский государственный университет — прим. ред.). Либо, раз мы жили в Железнодорожном районе, многие шли в УЭМИИТ (Уральский электромеханический институт инженеров транспорта — прим. ред.) Просто потому, что он рядом, у некоторых там работали родители, была понятна перспектива. Медицинский институт тоже котировался, но считался очень сложным. Был еще архитектурный институт, но он тогда был маленький и очень на любителя.
Стремились в УПИ. В УПИ был огромный выбор профессий. Тем более это же было время заводов, на заводах давали хорошую зарплату, квартиры давали, социальную поддержку. И большинство родителей считали, что если уж идти, то в УПИ: за ребенка можно быть спокойным.
— В каком году вы поступали?
— В 1973 году.
— Мне кажется, 1980-е годы — недооцененное время: столько всего заложено нового было. Для меня 1980-е годы — это время моего взросления.
— Да, и это был очень привлекательный образ, потому что очень свободные были дискуссии, с парадоксами, с противоречиями, ничего какого-то такого похожего на школу: никакой зубрежки, догматизма. Это было просто небо и земля.
— Когда поступили на вечернее отделение, не разочаровались в выборе факультета?
— Нисколько! Потому что в силу того, что конкурса было два, на вечернее попали, я бы сказала, отборные девочки: отличницы, школьницы в основном. А мальчики, которых была половина группы, как раз все были очень взрослые. Они на дневное даже и не поступали. Они могли быть уже семейными, с рабочими профессиями. Очень пестрые были мальчики. У них была тяга к знаниям. Кстати, многие из них потом раньше других защитили кандидатские и даже докторские. Вот это тоже факт интересный.
И также на нашем дневном курсе были те, кто пришел лет в 25 поступать, а то и даже в 27. У нас и такие были, уже немножко лысеющие. Мы на них смотрели, как на дяденек. Они так вообще рвали с учебой многие. Они, во-первых, уже к 5-му курсу все были женаты, имели детей. Подрабатывали где-то дворниками, кочегарами. Почти все они были из маленьких уральских городков. Они женились здесь часто на девочках городских, закреплялись, поступали в аспирантуру. Естественно, многие из них были членами партии, а для философского факультета это было суперважно: это влияло и на распределение, и на получение места в аспирантуре. Поэтому я в аспирантуру тоже очень долго не могла попасть, потому что в партию не вступала.
И также на нашем дневном курсе были те, кто пришел лет в 25 поступать, а то и даже в 27. У нас и такие были, уже немножко лысеющие. Мы на них смотрели, как на дяденек. Они так вообще рвали с учебой многие. Они, во-первых, уже к 5-му курсу все были женаты, имели детей. Подрабатывали где-то дворниками, кочегарами. Почти все они были из маленьких уральских городков. Они женились здесь часто на девочках городских, закреплялись, поступали в аспирантуру. Естественно, многие из них были членами партии, а для философского факультета это было суперважно: это влияло и на распределение, и на получение места в аспирантуре. Поэтому я в аспирантуру тоже очень долго не могла попасть, потому что в партию не вступала.
— Перевод на дневное отделение сильно поменял контингент ваших однокурсников?
— На вечернем отделении уровень преподавания был хороший, мы там всерьез учились: 4 раза в неделю по 2 пары. Когда я перешла на дневное, я уже очень многих знала, там учились некоторые мои одноклассники. Но поскольку я очень долго пересдавала 17 предметов, то не сразу вписалась. Не могу сказать, что очень сильно поменялся контингент, потому что социальный состав, интеллектуальный состав, что на вечернем, что на заочном, что на дневном был примерно одинаковым.
— Расскажите, пожалуйста, о преподавателях. Кто был кумиром у первокурсников, второкурсников?
— Каких-то таких кумиров, чтобы влюблялись, честно говоря, я не помню. Был некоторый трепет, уважение и большой авторитет, который в основном появлялся на старших курсах. Например, у нас по истории философии всегда были очень сильные преподаватели. Это был предмет, который у нас был с первого курса до пятого курса сквозной — от античности до современной философии. Преподаватели были со знанием языков, и это производило впечатление. Особенно преподаватель Кутлунин. К сожалению, у меня имя из головы вылетело, он уже покойный. (Анатолий Григорьевич Кутлунин — прим. ред.) Он был специалистом, нам рассказывал философию второй половины XIX века: Ницше, Шопенгауэр. Я помню, что мы очень перед ним трепетали, боялись его.
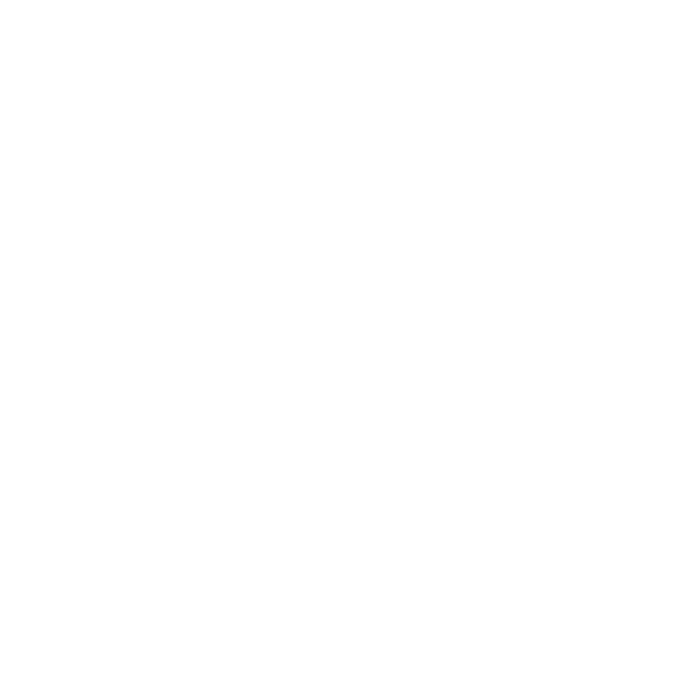
Кутлунин Анатолий Григорьевич, преподаватель факультета философии УрГУ
А еще наши преподаватели нам подкидывали, что почитать. Проходим мы влияние Ницше. Значит, надо читать роман Германа Гессе, например, «Степной волк». Мы тут же бежали, все это читали.
Предмет история философии вызывал уважение, потому что было ощущение, что это действительно профессия, это действительно какое-то очень специализированное знание. Потому что, например, когда нам читали научный коммунизм или политэкономию, этого ощущения не было. Это был просто предмет, который надо выучить за два дня, сдать и больше не вспоминать. А тут было ощущение, что тебе действительно как-то мозги простраивают.
Был такой Шитиков Михаил Михайлович, он нам читал историю философии нового времени. Звиревич Витольд Титович читал нам античность. То есть по истории философии запомнились и вызывали уважение почти все. Перцев Александр Владимирович читал уже XX век. Он был нас всего на 2 года старше: только окончил университет, а мы проходили уже последние этапы философии на 5-м курсе. Поэтому с ним были на «ты» и друзья. Он у нас у первых читал курс, очень хорошо и понятно объяснял Хайдеггера, Сартра.
После второго курса у нас была специализация. Первые два года мы все учились одинаково, одному. А после второго курса группы заново набирались, и было три специализации. Одна — диамат (диалектический материализм — прим. ред.), это то, что сейчас называется онтология теории познания. Был исторический материализм, это кафедра, которая теперь называется социальная философия. Я выбрала специальность «Эстетика», но на нее всегда было немножко меньше желающих.
Самая престижная была онтология теории познания. Туда шли самые продвинутые. Зато на кафедре эстетики собиралась какая-то своя компания людей, которые любят искусство. И поскольку у нас группа была не очень большая, к нам добавляли в разные времена то этиков, то научных атеистов.
И с нами тоже преподаватели уже нашей кафедры занимались очень много. Это, конечно, в первую очередь наш заведующий, основатель кафедры Аркадий Федорович Еремеев. Он был тогда единственным доктором, профессором, автором учебника, человеком известным в СССР, поскольку он руководил проблемным советом по эстетике. То есть он был такая прямо величина в мире эстетики: человек со знанием языков, очень хорошо знал модернистское искусство, кино. Лев Абрамович Закс, ученик Еремеева, был куратором нашей группы. Очень много с нами занимались: киноклуб был, водили нас на выставки, говорили, что нам нужно читать, очень много с нами беседовали, тем более еще и разница по возрасту была не очень большая. Весь состав преподавателей, мне сейчас студенты не верят, был по возрасту до 40 лет: выпускники первого, второго и третьего выпуска философского факультета.
Предмет история философии вызывал уважение, потому что было ощущение, что это действительно профессия, это действительно какое-то очень специализированное знание. Потому что, например, когда нам читали научный коммунизм или политэкономию, этого ощущения не было. Это был просто предмет, который надо выучить за два дня, сдать и больше не вспоминать. А тут было ощущение, что тебе действительно как-то мозги простраивают.
Был такой Шитиков Михаил Михайлович, он нам читал историю философии нового времени. Звиревич Витольд Титович читал нам античность. То есть по истории философии запомнились и вызывали уважение почти все. Перцев Александр Владимирович читал уже XX век. Он был нас всего на 2 года старше: только окончил университет, а мы проходили уже последние этапы философии на 5-м курсе. Поэтому с ним были на «ты» и друзья. Он у нас у первых читал курс, очень хорошо и понятно объяснял Хайдеггера, Сартра.
После второго курса у нас была специализация. Первые два года мы все учились одинаково, одному. А после второго курса группы заново набирались, и было три специализации. Одна — диамат (диалектический материализм — прим. ред.), это то, что сейчас называется онтология теории познания. Был исторический материализм, это кафедра, которая теперь называется социальная философия. Я выбрала специальность «Эстетика», но на нее всегда было немножко меньше желающих.
Самая престижная была онтология теории познания. Туда шли самые продвинутые. Зато на кафедре эстетики собиралась какая-то своя компания людей, которые любят искусство. И поскольку у нас группа была не очень большая, к нам добавляли в разные времена то этиков, то научных атеистов.
И с нами тоже преподаватели уже нашей кафедры занимались очень много. Это, конечно, в первую очередь наш заведующий, основатель кафедры Аркадий Федорович Еремеев. Он был тогда единственным доктором, профессором, автором учебника, человеком известным в СССР, поскольку он руководил проблемным советом по эстетике. То есть он был такая прямо величина в мире эстетики: человек со знанием языков, очень хорошо знал модернистское искусство, кино. Лев Абрамович Закс, ученик Еремеева, был куратором нашей группы. Очень много с нами занимались: киноклуб был, водили нас на выставки, говорили, что нам нужно читать, очень много с нами беседовали, тем более еще и разница по возрасту была не очень большая. Весь состав преподавателей, мне сейчас студенты не верят, был по возрасту до 40 лет: выпускники первого, второго и третьего выпуска философского факультета.
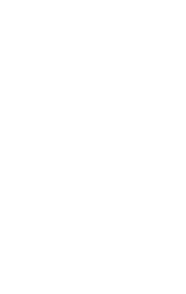
Еремеев Аркадий Федорович, заведующий кафедрой эстетики
Киноклуб у нас вел Владимир Васильевич Харитонов, он тоже очень много сделал для нас. Просто он не так долго работал на кафедре, но киноклуб он вел очень долго и через него прошла куча людей. И к нам приезжали режиссеры Отар Иоселиани, молодой Никита Михалков и еще какие-то люди. Харитонов умел приглашать, и все знали, что на философском факультете есть киноклуб. Мы заседали в кинотеатре «Космос».
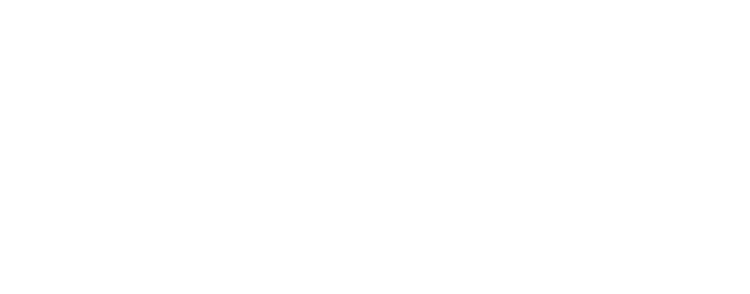
Преподаватели философского факультета (слева направо): Архангельский Леонид Михайлович, профессор, доктор философских наук, Чупин Павел Петрович, преподаватель логики, Любутин Константин Николаевич, проф., доктор ф.н., заведующий кафедрой истории философии, Еремеев Аркадий Федорович, заведующий кафедрой эстетики
Студенческие отряды
— Давайте поговорим про студенческие отряды, стройотряды. Какие отряды были на факультете, к которым вы имели отношение?
— Стройотряд — очень важная часть моей жизни, одна из самых значительных. Моя подруга поехала в стройотряд уже после первого курса дневного обучения. Я ей очень завидовала, потому что я поехала только после второго курса. Стройотрядов в университете было очень много. Они были закреплены за факультетами, но реально они были внутриуниверситетские, то есть могли люди с разных факультетов в них входить. Просто так складывалось, что в какие-то стройотряды больше приходили люди с одних факультетов. Вот у нас, например, стройотряд философского факультета назывался «Ромашка». В 1973 году ему было 5 лет. И у нас в основном были философы, небольшое количество историков и пара человек с химического факультета. Это был женский стройотряд.
Мы очень резко и четко всегда отделяли себя от других стройотрядов. Женских отрядов было три в университете. Был еще «ЭОС», это переводится, по-моему, радуга. Это в основном были девочки естественно-научных факультетов. Мы их немножечко презирали, потому что они такие были, нам казалось, простенькие девчушки. А мы претендовали на то, что мы не только работаем, но еще интеллектуалки, ведем очень интересную творческую жизнь.
И был еще второй отряд «Россияна», который тоже объединял очень много факультетов, он считался общеуниверситетским. «Россияна», например, на БАМ ездили. Они были такой как бы выставочной карточкой университета. Там нагруженности идеологической было больше.
А мы, как философы, более свободно мыслили. Хотя нам всегда говорили: «Вы — факультет идеологический, вы — кузница идеологических работников, многие из вас по распределению могут пойти в идеологические отделы райкомов, обкомов и горкомов партии». И некоторые наши мальчики были на это нацелены. Но тем не менее философский по факту был невероятно либеральным факультетом. С таким, я бы сказала, неким постоянным контрнеявным душком. Поэтому мы, конечно, уже в 1970-е годы очень иронически относились ко всякой идеологии. Немножко у нас был как бы стеб в каких-то разрешенных пределах.
Я в отряд «Ромашка» записалась просто потому, что туда пошла моя подруга. Я ничего про это не знала. В основном считали самыми престижными строительные стройотряды, потому что кроме строительных стройотрядов еще были проводники, которые могли ездить летом. Но там не было никакой общей жизни, потому что они привязаны к своему вагону. Ну и зарабатывали они тоже все-таки поменьше.
Гендерное разделение на женские и мужские стройотряды было связано с характером работы, больше ни с чем: так было удобнее деньги зарабатывать. Стройотряды пускали строить только в сельскую местность, потому что там все объекты строительные были разбиты по категориям, и мы могли работать только на нижней категории, так как мы не проходили никакой учебы на штукатуров, на маляров. Мы просто приезжали и учились у наших же «стариков», у которых был опыт прошлых годов. И поэтому нас пускали на объекты, где не требовалось высокое качество. Например, штукатурка коровников, свинарников или отделка жилых домов в сельской местности. Соответственно, мы там и жили.
Первый год мы работали на Ирбитском свинооткормочном комплексе. Очень часто на таких объектах работает несколько стройотрядов. Рядом с нами работал мужской стройотряд — выполнял работу каменщиков и бетонщиков. Естественно, вечерами мы общались. Такое соседство мужских и женских отрядов было каждый год, на протяжении пяти лет, когда я ездила.
Мы очень резко и четко всегда отделяли себя от других стройотрядов. Женских отрядов было три в университете. Был еще «ЭОС», это переводится, по-моему, радуга. Это в основном были девочки естественно-научных факультетов. Мы их немножечко презирали, потому что они такие были, нам казалось, простенькие девчушки. А мы претендовали на то, что мы не только работаем, но еще интеллектуалки, ведем очень интересную творческую жизнь.
И был еще второй отряд «Россияна», который тоже объединял очень много факультетов, он считался общеуниверситетским. «Россияна», например, на БАМ ездили. Они были такой как бы выставочной карточкой университета. Там нагруженности идеологической было больше.
А мы, как философы, более свободно мыслили. Хотя нам всегда говорили: «Вы — факультет идеологический, вы — кузница идеологических работников, многие из вас по распределению могут пойти в идеологические отделы райкомов, обкомов и горкомов партии». И некоторые наши мальчики были на это нацелены. Но тем не менее философский по факту был невероятно либеральным факультетом. С таким, я бы сказала, неким постоянным контрнеявным душком. Поэтому мы, конечно, уже в 1970-е годы очень иронически относились ко всякой идеологии. Немножко у нас был как бы стеб в каких-то разрешенных пределах.
Я в отряд «Ромашка» записалась просто потому, что туда пошла моя подруга. Я ничего про это не знала. В основном считали самыми престижными строительные стройотряды, потому что кроме строительных стройотрядов еще были проводники, которые могли ездить летом. Но там не было никакой общей жизни, потому что они привязаны к своему вагону. Ну и зарабатывали они тоже все-таки поменьше.
Гендерное разделение на женские и мужские стройотряды было связано с характером работы, больше ни с чем: так было удобнее деньги зарабатывать. Стройотряды пускали строить только в сельскую местность, потому что там все объекты строительные были разбиты по категориям, и мы могли работать только на нижней категории, так как мы не проходили никакой учебы на штукатуров, на маляров. Мы просто приезжали и учились у наших же «стариков», у которых был опыт прошлых годов. И поэтому нас пускали на объекты, где не требовалось высокое качество. Например, штукатурка коровников, свинарников или отделка жилых домов в сельской местности. Соответственно, мы там и жили.
Первый год мы работали на Ирбитском свинооткормочном комплексе. Очень часто на таких объектах работает несколько стройотрядов. Рядом с нами работал мужской стройотряд — выполнял работу каменщиков и бетонщиков. Естественно, вечерами мы общались. Такое соседство мужских и женских отрядов было каждый год, на протяжении пяти лет, когда я ездила.
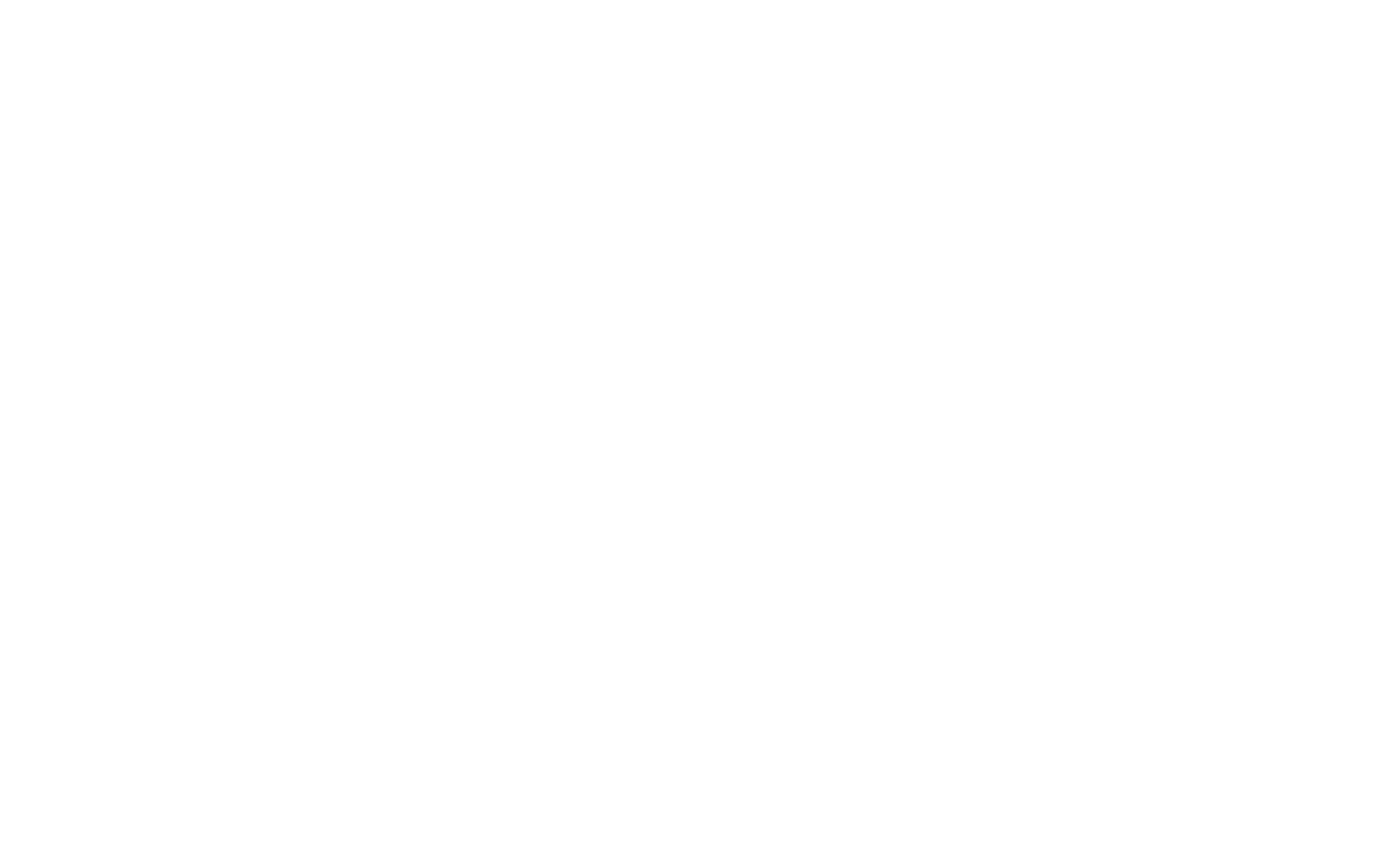
Стройотряд «Ромашка». 1975 г
— Какая продолжительность была поездки в стройотрядах?
— Почти два месяца. В самых первых числах июля мы уезжали. И работали без выходных. Раз в месяц был только банный день, когда нас везли в город в городскую баню помыться. Никаких других условий помыться не было, потому что нас селили в школах. Сами понимаете, душевых там просто нет. Мылись из тазика.
График работы — пока длится световой день, то есть часов до восьми. И начинали работать примерно с восьми утра. Если учесть, что потом у нас по вечерам были всякие песни, пляски, стенгазеты, конкурсы, бог знает что, беспрерывная жизнь, то думаю, что часов по шесть спали. Да и то вряд ли. Ну плюс еще там романы обязательно. У костра сидеть с мужским стройотрядом до полуночи, песни петь. В общем, отбой был не железный, то есть не как в армии. Каждый сам должен был рассчитывать свои силы. И были те, которые на рабочем месте засыпали.
График работы — пока длится световой день, то есть часов до восьми. И начинали работать примерно с восьми утра. Если учесть, что потом у нас по вечерам были всякие песни, пляски, стенгазеты, конкурсы, бог знает что, беспрерывная жизнь, то думаю, что часов по шесть спали. Да и то вряд ли. Ну плюс еще там романы обязательно. У костра сидеть с мужским стройотрядом до полуночи, песни петь. В общем, отбой был не железный, то есть не как в армии. Каждый сам должен был рассчитывать свои силы. И были те, которые на рабочем месте засыпали.
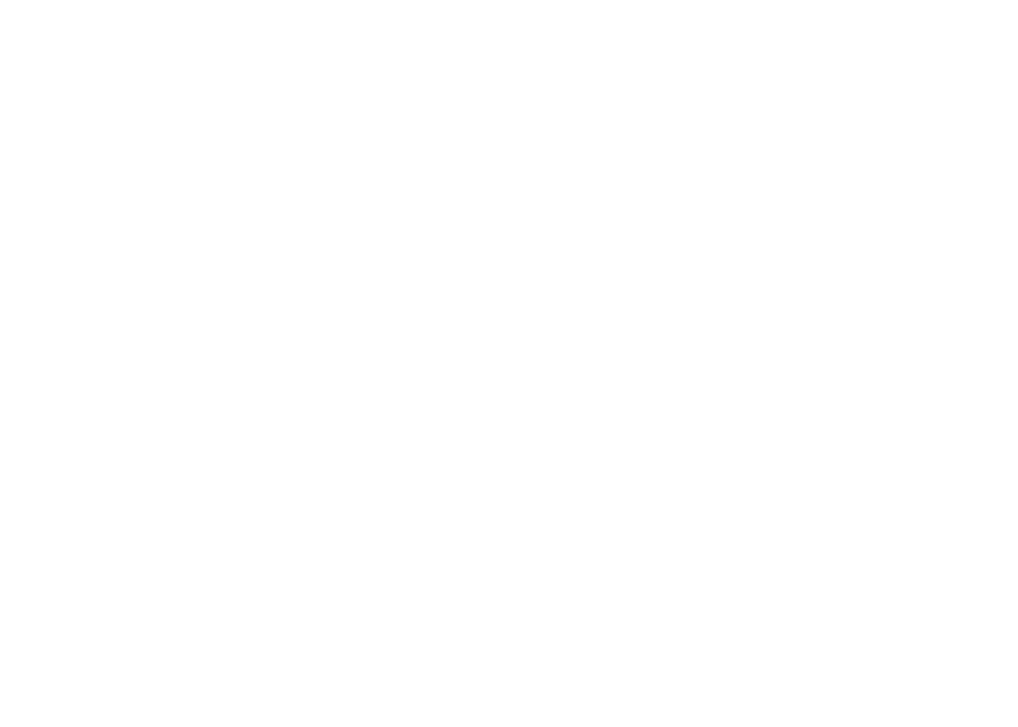
Выступление стройотряда «Ромашка» на летнем фестивале ССО. 1976 г.
— Кормили как и чем?
— Кормили. Были свои повара обязательно. Во всех стройотрядах всю весну подбирали людей: шел конкурс, человек не мог просто прийти и записаться в отряд. Активом сидели и решали: берем или не берем. Затем шел подготовительный период, где мы смотрели этих людей. На этот период у нас был план, который с нас требовал комитет комсомола. Надо было дать определенное количество концертов в деревнях. Называлось это агитка, хотя там мы ни за что не агитировали, просто была такая форма: стихи, песни, пляски, сценки.
— Это помимо строительной работы?
Это было в подготовительный период, то есть весной. Мы должны были очень много такого делать, где мы, естественно, смотрели на новичков. Потом уже окончательно выносили вердикт. Далее нужно было пройти медкомиссию, но никаких курсов заканчивать не надо было. Тогда это называлось «ездить на целину». Хотя понятно, что это было не целина, просто название сохранилось. И одежда поэтому называлась «целинка».
Когда мы жили в деревнях, где строили, у нас тоже была культурная программа, потому что шло соревнование между стройотрядами. Штаб стройотрядов находился в городе Артемовском, и в него входило до 20 строительных отрядов. Между ними тоже шло соревнование по самым разным показателям. Кроме командира стройотряда должен был быть обязательно комиссар, который проводит культурную работу и для населения, и внутри. И дальше мы должны были отчитываться.
А почему важно было соревнование? Выигравшим соревнование на отряд больше дают значков ударника. А когда распределяли путевки за границу, значок ударника давал возможность победителям в соревнованиях получить больше этих путевок. Вам на отряд может достаться одна, а может достаться три. Больше, по-моему, не бывало. И вы на собрании решаете, кому путевка достанется. И этот значок ударника дает тоже какой-то бонус. У меня было два значка ударника, это вообще почти рекорд.
Когда мы жили в деревнях, где строили, у нас тоже была культурная программа, потому что шло соревнование между стройотрядами. Штаб стройотрядов находился в городе Артемовском, и в него входило до 20 строительных отрядов. Между ними тоже шло соревнование по самым разным показателям. Кроме командира стройотряда должен был быть обязательно комиссар, который проводит культурную работу и для населения, и внутри. И дальше мы должны были отчитываться.
А почему важно было соревнование? Выигравшим соревнование на отряд больше дают значков ударника. А когда распределяли путевки за границу, значок ударника давал возможность победителям в соревнованиях получить больше этих путевок. Вам на отряд может достаться одна, а может достаться три. Больше, по-моему, не бывало. И вы на собрании решаете, кому путевка достанется. И этот значок ударника дает тоже какой-то бонус. У меня было два значка ударника, это вообще почти рекорд.
— То есть внутри отряда не всем дается значок ударника?
— Нет, нет, вы что! Там 2-3 значка даются на весь отряд, потому что их количество тоже ограничено и требования к ударникам довольно высокие.
— Как можно было заработать такой значок?
— Это просто смотрят сами люди, с которыми ты работаешь. А потом решает собрание. Был так называемый КТУ, коэффициент трудового участия. КТУ влиял на зарплату. Ездить в стройотряды было выгодно, потому что студенты, работающие в трудовом семестре, были освобождены от налога. А это все-таки 13%. Это существенно, в случае если начисляется зарплата 1000 рублей, такую сумму парни зарабатывали на бетонных работах. Это были огромные деньги.
— Учитывая, что зарплата инженера 190 рублей была.
— Даже меньше! 190 рублей — это с премиями на каких-то производствах. А так инженер получал в месяц 120–150 рублей, прогрессивка так называемая. Если два человека из семьи с высшим образованием получают 120, то вполне жить можно с одним или двумя детьми.
Мужские отряды зарабатывали более-менее стабильно. Особенно те отряды, где были уже хорошие, опытные, ловкие, командиры, а при командире еще был мастер, потому что командир занимался очень часто внешними связями, выбивал стройматериалы, ездил в стройуправления, это все было очень сложно. Потому что, с одной стороны, с бетонным узлом вы должны иметь дело, с другой стороны, вы должны иметь дело с шоферами, которые принадлежат другой организации, и так далее, и так далее.
Сдача объекта — этим занимался командир. А вот внутри организацией работ занимается мастер: распределяет работу среди бригад, следит за качеством, за наполняемостью, дает сигналы командиру, если не хватает бетона, например, или машина где-то застряла, которая бетон везет, или краску не подвезли и так далее. Если в мужском стройотряде был опытный костяк, то ребята до 1000 рублей получали. И от налогов были освобождены. Поэтому было очень выгодно ездить.
Кроме этого стройотрядовцы не платили за проживание. Потому что жили в школах, которые летом пустые. Туда просто завозили очень плохие кровати с металлическими сетками и матрасы. Мы там сами как-то обустраивались. И обустраивали кухню. Кухня была в школьной столовой. Мы нанимали своих поваров. То есть мы брали только рабочих, а кто-то из девочек шел в повара. Это была крайне тяжелая работа. Представляете, из 30 человек отряд надо было накормить. Они же и мыли посуду. Дежурных практически почти не было. И было, как правило, два повара. Они работали посменно.
Форму мы тоже покупали за свои деньги, но это все было очень недорого. Были магазины рабочей одежды, где вообще все это копейки стоило: комбинезоны, суровые ботинки. Иногда одежду выдавали. Но не всегда.
Мужские отряды зарабатывали более-менее стабильно. Особенно те отряды, где были уже хорошие, опытные, ловкие, командиры, а при командире еще был мастер, потому что командир занимался очень часто внешними связями, выбивал стройматериалы, ездил в стройуправления, это все было очень сложно. Потому что, с одной стороны, с бетонным узлом вы должны иметь дело, с другой стороны, вы должны иметь дело с шоферами, которые принадлежат другой организации, и так далее, и так далее.
Сдача объекта — этим занимался командир. А вот внутри организацией работ занимается мастер: распределяет работу среди бригад, следит за качеством, за наполняемостью, дает сигналы командиру, если не хватает бетона, например, или машина где-то застряла, которая бетон везет, или краску не подвезли и так далее. Если в мужском стройотряде был опытный костяк, то ребята до 1000 рублей получали. И от налогов были освобождены. Поэтому было очень выгодно ездить.
Кроме этого стройотрядовцы не платили за проживание. Потому что жили в школах, которые летом пустые. Туда просто завозили очень плохие кровати с металлическими сетками и матрасы. Мы там сами как-то обустраивались. И обустраивали кухню. Кухня была в школьной столовой. Мы нанимали своих поваров. То есть мы брали только рабочих, а кто-то из девочек шел в повара. Это была крайне тяжелая работа. Представляете, из 30 человек отряд надо было накормить. Они же и мыли посуду. Дежурных практически почти не было. И было, как правило, два повара. Они работали посменно.
Форму мы тоже покупали за свои деньги, но это все было очень недорого. Были магазины рабочей одежды, где вообще все это копейки стоило: комбинезоны, суровые ботинки. Иногда одежду выдавали. Но не всегда.
— Зарплата в женских отрядах сильно отличалась от мужских?
— Зарплата у нас менялась. В первый раз я поехала в 1975 году. Предыдущие «старики», которые ездили в 1974 году, с гордостью говорили, что впервые заработали около 180 рублей. Это считалось хорошо. Очень много зависит от командира. А тогда в отряде командиры каждый год менялись. Видимо, первые четыре года существования отряда было еще не очень все утрясено. Народ не очень понимал, зачем он ездит: повеселиться, поплясать и так далее. Какая-то, в общем, романтика. Но уже к пятому году люди ездили осмысленно, потому что это были очень заметные деньги.
В первый год я получила чуть больше 200 рублей. Что такое 200 рублей по тем временам? Стипендия была 40 рублей, а вы ее получаете, если учитесь хотя бы без троек или с одной тройкой, повышенная стипендия всего на 5 рублей больше. То есть получается, что 200 рублей — это всего 5 добавочных стипендий. Но правда, если считать, что вы за 2 месяца ничего не платили и потом сразу получаете 200 рублей, то люди, получив деньги, ехали, например, на юг в сентябре и там эти деньги тратили, даже не спешили выходить на учебу. Да и на проезд в поезде были студенческие льготы. Либо покупалось зимнее пальто. Зимнее пальто с меховым воротником, пошитое в ателье, стоило рублей 120. Плюс зимняя шапка. Все, у вас больше этих денег нет. Но все-таки вы какие-то дыры закрыли. 200 рублей казалось нам большой суммой.
К пятому году моих поездок со стройотрядом мы получали 600 рублей. Это были очень серьезные деньги. Некоторые на эти деньги снимали комнату, чтобы не жить в общежитии. На эти деньги можно было и в каникулы зимние в Москву или в Ленинград съездить на пару недель. Это было большое достижение, потому что в некоторых стройотрядах было меньше.
Деньги выдавались командиру на весь стройотряд. То есть это была проблема для командира-девочки, как эту гигантскую сумму денег куда-то довезти, где-то на вокзале или на автостанции, или в каком-нибудь закрытом помещении людям выдать сотни рублей.
Распределяли КТУ, от которого зависела зарплата, на общем собрании. К тому времени было понятно, что кто-то приехал развлечься, кто-то просто вообще не приспособлен к физическому труду и волынит и спит где-нибудь во время рабочего дня. Таких было немного, но такие всегда были. И приходилось неприятный разговор в конце проводить. Разница в зарплате была. Но я не помню, чтобы кто-то обижался или кого-то обижали. Да плюс к зарплате за значок ударника еще у вас путевка за границу могла быть. Вот я ездила в Египет. Это было крайне редко. Люди ездили в Болгарию, ГДР, Польшу. И путевки были относительно недорогие. По-моему, моя путевка рублей 200 стоила.
В первый год я получила чуть больше 200 рублей. Что такое 200 рублей по тем временам? Стипендия была 40 рублей, а вы ее получаете, если учитесь хотя бы без троек или с одной тройкой, повышенная стипендия всего на 5 рублей больше. То есть получается, что 200 рублей — это всего 5 добавочных стипендий. Но правда, если считать, что вы за 2 месяца ничего не платили и потом сразу получаете 200 рублей, то люди, получив деньги, ехали, например, на юг в сентябре и там эти деньги тратили, даже не спешили выходить на учебу. Да и на проезд в поезде были студенческие льготы. Либо покупалось зимнее пальто. Зимнее пальто с меховым воротником, пошитое в ателье, стоило рублей 120. Плюс зимняя шапка. Все, у вас больше этих денег нет. Но все-таки вы какие-то дыры закрыли. 200 рублей казалось нам большой суммой.
К пятому году моих поездок со стройотрядом мы получали 600 рублей. Это были очень серьезные деньги. Некоторые на эти деньги снимали комнату, чтобы не жить в общежитии. На эти деньги можно было и в каникулы зимние в Москву или в Ленинград съездить на пару недель. Это было большое достижение, потому что в некоторых стройотрядах было меньше.
Деньги выдавались командиру на весь стройотряд. То есть это была проблема для командира-девочки, как эту гигантскую сумму денег куда-то довезти, где-то на вокзале или на автостанции, или в каком-нибудь закрытом помещении людям выдать сотни рублей.
Распределяли КТУ, от которого зависела зарплата, на общем собрании. К тому времени было понятно, что кто-то приехал развлечься, кто-то просто вообще не приспособлен к физическому труду и волынит и спит где-нибудь во время рабочего дня. Таких было немного, но такие всегда были. И приходилось неприятный разговор в конце проводить. Разница в зарплате была. Но я не помню, чтобы кто-то обижался или кого-то обижали. Да плюс к зарплате за значок ударника еще у вас путевка за границу могла быть. Вот я ездила в Египет. Это было крайне редко. Люди ездили в Болгарию, ГДР, Польшу. И путевки были относительно недорогие. По-моему, моя путевка рублей 200 стоила.
— То есть путевку получали, но за нее надо было заплатить?
— Заплатить надо было. Ее получить было трудно. Потому что они прямо штучно выдавались. Все замерить невозможно. Труд коллективный, не индивидуальный. Это, кстати, тоже многим не нравилось. У нас был такой проверочный тест, когда привозят машину раствора, а грузовик такой высокий, самосвал, залит жидким раствором. Разгрузить надо очень быстро, потому что раствор застывает. Самосвал подъезжает к такому месту, где у нас обшито деревом, поднимает кузов и раствор вываливается, но поскольку лето и жарко, остается очень много внутри. Водитель торопится, нам надо быстро залезть, по краям машины встать и лопатой все это тщательно соскоблить. Это довольно тяжело и было малоприятным занятием. И вот каждый раз, когда подъезжает машина к объекту, повисает пауза: кто полезет чистить. Понятно, что есть люди, которые полезут всегда. А есть те, кто не полезет никогда. Вот так и выявлялись самые работящие.
— А часто менялись командиры? Кто был командиром у вас?
— В первый мой год была Акашева Наталья. Она была взрослая, решительная. Она очень удачно провела первый год, как раз вывела отряд на серьезный уровень. Но когда мы поехали уже в 1976 году, обожая ее, у нее начались личные проблемы. И она на объекте появлялась редко, нервничала, срывалась. И очень много на себя брали бригадиры, и в конце концов они собрались и ее свергли.
— То есть командир — это выборная должность?
— Да, выборная. В тот год бригадиры довели дело до сдачи, потому что мы ведь должны в конце сдать объект, и нам деньги заплатят только тогда, когда приедет комиссия. И поставит она нам тройку или четверку. Пятерку никогда не ставили, так не бывает в строительстве. От оценки зависит зарплата, которую мы получим, и существенно зависит. И плюс еще, как правило, мы работали на школах, и надо было к первому сентября все сдать. То есть штурмовщина была страшная. Нервы у всех уже на пределе. В августе уже идут дожди. Часто холодно, все устали, ссорятся. Начальство тоже нервное, матерится и так далее. И поэтому тогда смещение командира было необходимой мерой.
Формально мы ее не снимали и в штаб стройотрядов не сообщали. Потому что зачем с начальством ссориться выше и объяснять. Просто бригадиры взяли в свои руки и довели дело до конца. Поэтому на будущий год уже выбрали Светлану Соколову, историка. Она неплохо справлялась, все были довольны. Но потом она окончила университет и больше просто не могла поехать. После пятого курса многие уже не едут, потому что распределение, взрослая жизнь.
Потом была моя подруга Елена Трубина, которая была потом много лет профессором философского факультета нашего университета.
Формально мы ее не снимали и в штаб стройотрядов не сообщали. Потому что зачем с начальством ссориться выше и объяснять. Просто бригадиры взяли в свои руки и довели дело до конца. Поэтому на будущий год уже выбрали Светлану Соколову, историка. Она неплохо справлялась, все были довольны. Но потом она окончила университет и больше просто не могла поехать. После пятого курса многие уже не едут, потому что распределение, взрослая жизнь.
Потом была моя подруга Елена Трубина, которая была потом много лет профессором философского факультета нашего университета.
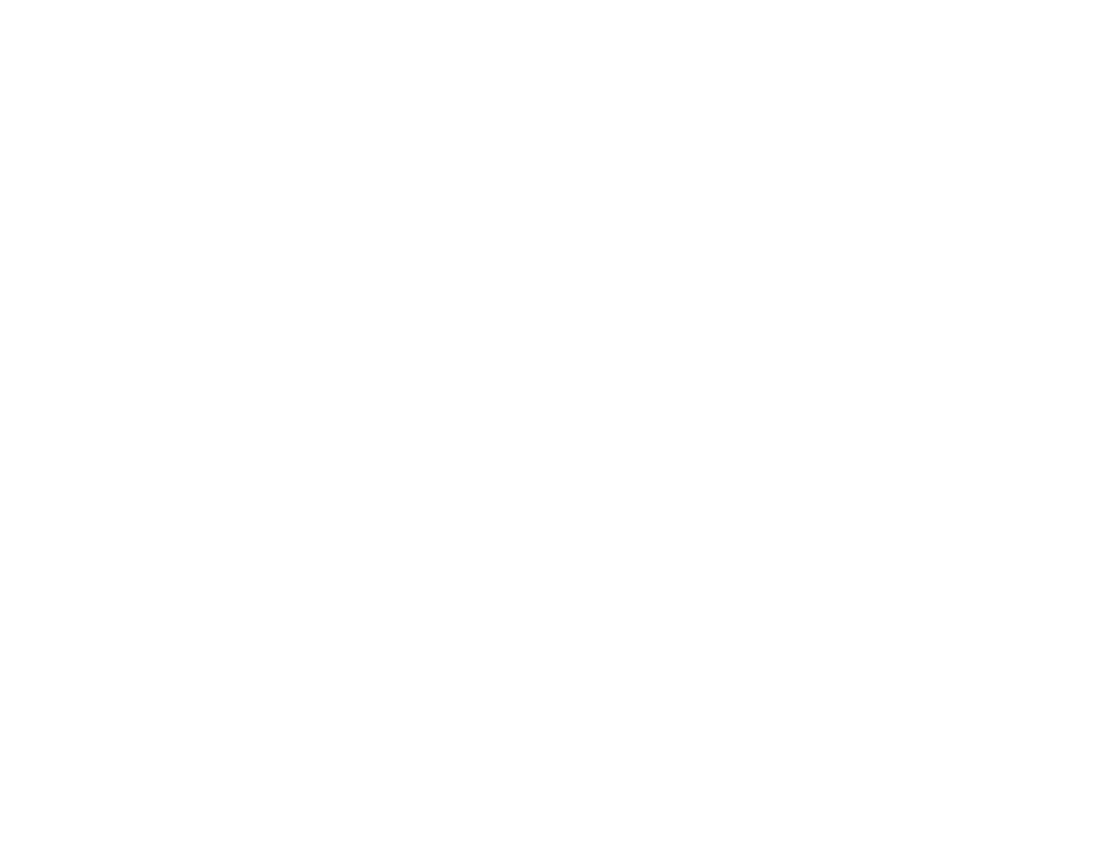
Стройотряд Ромашка. В центре командир Елена Трубина. 1976 г.
Елена была командиром два года. И при ней как раз зарплаты возросли очень существенно. Мы в те годы рядом с мужским стройотрядом университетским «Аргонавт» работали в соседних зданиях, это в основном химики и физики были. И командир «Аргонавтов» научил Елену массе всяких вещей. Там очень важно, как заполняются ведомости на виды работы, как они считаются, чтобы вас там не обманули. Многое обычно не учитывается, начиная с подноски раствора, потому что его просто вываливают, а вы работаете на четырех этажах и вручную ведерко таскаете без лифтов по квартирам. А можно, например, накачать прямо наверх и не таскать. И важно учитывать особенности труда, и еще была масса всяких хитростей.
Стройка — это вообще такое дело, что очень много может быть «липы». Там есть на чем накручивать. Это не производство в цеху, где все точно, там очень много всего приблизительного и очень мало что можно проверить. В общем, при Лене зарплата выросла вдвое. Она вообще на объектах очень мало бывала. Но зато она с документами работала и с начальством общалась. И оказалось, что это очень важно.
Стройка — это вообще такое дело, что очень много может быть «липы». Там есть на чем накручивать. Это не производство в цеху, где все точно, там очень много всего приблизительного и очень мало что можно проверить. В общем, при Лене зарплата выросла вдвое. Она вообще на объектах очень мало бывала. Но зато она с документами работала и с начальством общалась. И оказалось, что это очень важно.
— Видимо, у нее есть к этому все способности.
— Она была совершенно к этому не способна. Лена — такая книжная девочка, отличница, но она научилась. Я не была ни комиссаром, ни командиром, и даже бригадиром была очень редко. Я очень много по самодеятельности делала, писала отчет вместо комиссара.
— Расскажите, пожалуйста, про самодеятельность.
— Самодеятельность была очень развита и была на хорошем уровне. Например, когда у нас был во второй половине сезона, в августе, на День строителя зональный фестиваль строительных отрядов, все приезжали в город Артемовский.
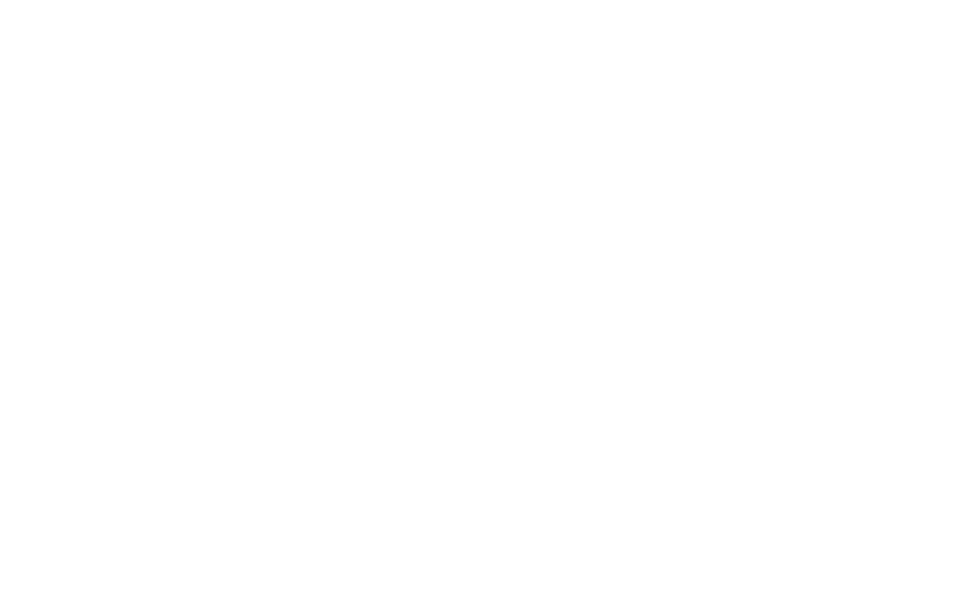
Фестиваль ССО (студенческих строительных отрядов) в Артемовском. 1975 г.
Было до 20 отрядов, ну и как на КВН, нужно было приветствие подготовить. Естественно, все соревнуются. Очень смешно и здорово. Потом начинается концерт, и все выдают свою программу. Почти всегда это какие-то постановочные вещи, какие-то сценарные штуки, которые сами придуманы. Не просто песню спеть или станцевать. Надо было выдать класс. И мы очень часто класс выдавали.
Потом был еще подготовительный период весной и смотр агитбригад. Там тоже нужно было готовить большую хорошую программу и постановку минут на 20. Все с большим количеством людей, обязательно самими сочиненным, интересно сделанным. Кроме этого, внутри стройотряда у нас были бесконечные какие-то праздники. День нашего стройотряда, например. Соответственно, посвящение — важнейший праздник. Тоже нужно было всю программу придумать.
Потом был еще подготовительный период весной и смотр агитбригад. Там тоже нужно было готовить большую хорошую программу и постановку минут на 20. Все с большим количеством людей, обязательно самими сочиненным, интересно сделанным. Кроме этого, внутри стройотряда у нас были бесконечные какие-то праздники. День нашего стройотряда, например. Соответственно, посвящение — важнейший праздник. Тоже нужно было всю программу придумать.
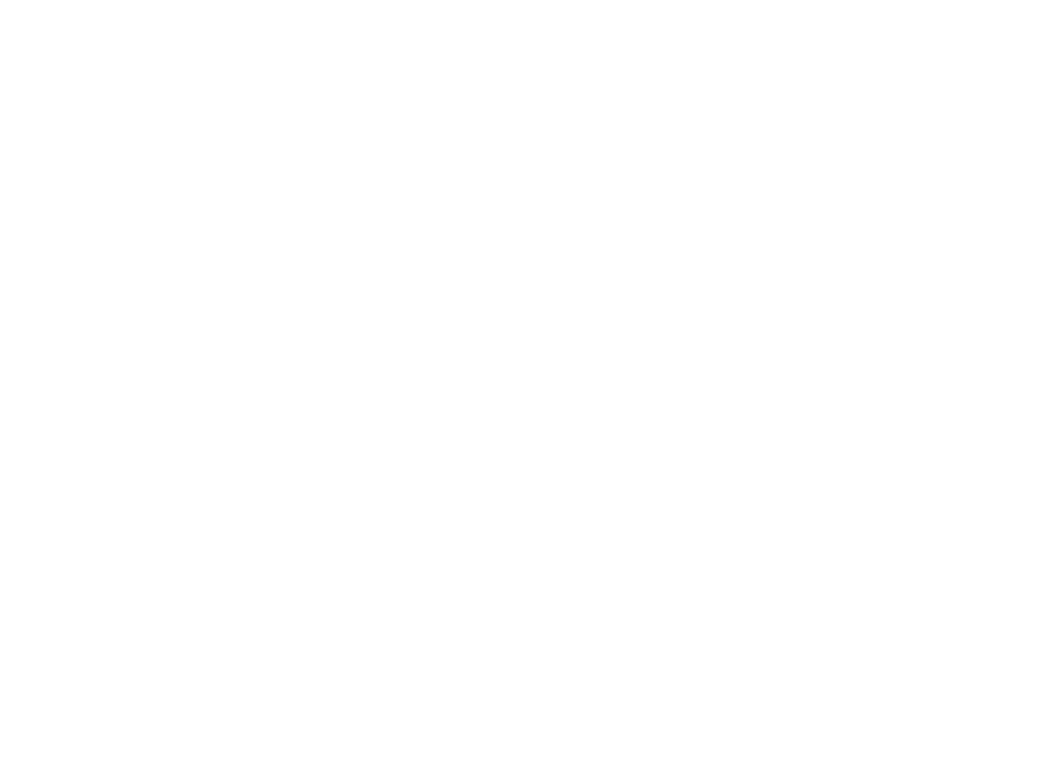
Смотр агитбригад. 1976 г.
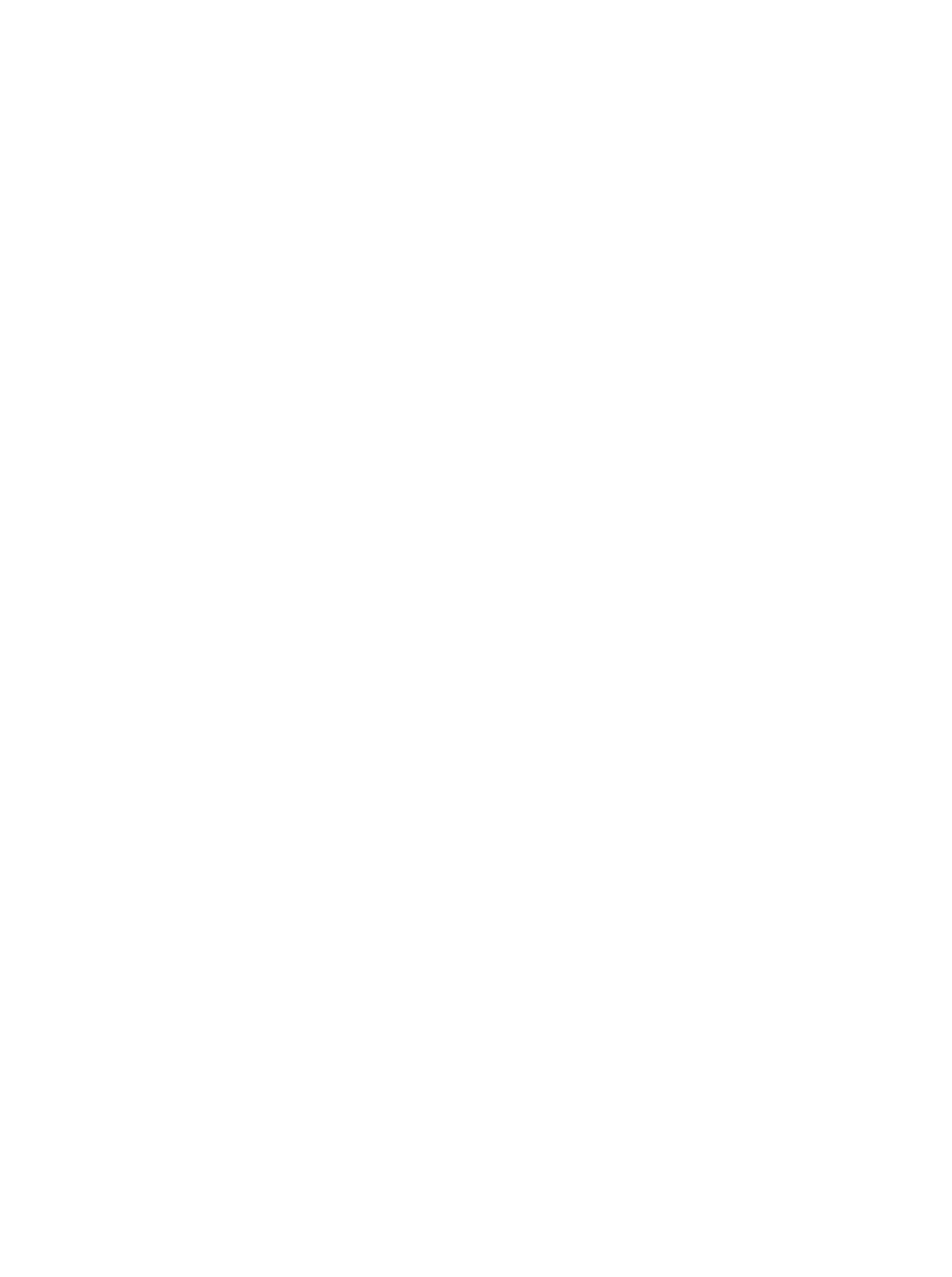
Выступление в составе агитбригады. 1976 г.
—Интересно, а как посвящали в отряд? Был какой-то традиционный обряд?
— До нас доходили слухи, что вообще посвящение, как любые посвящения, могут проходить очень жестко. Мажут кого-то, глаза завязывают. Но поскольку мы были достаточно интеллектуальный отряд, мы решили, что по этому пути не пойдем. Мы придумывали какие-то задания, я даже сейчас не помню какие, но там не было никакой физической жестокости и унижения. Скорее было много всякого смешного.
— Алкоголь разрешался в стройотрядах?
— С алкоголем вот как было дело. Был «сухой закон», за ним жестко следят, но люди, конечно, все равно нарушают. Но нарушают в основном в самом конце, когда банкет устраивается. Банкет, конечно, тоже неразрешенный. И совершенно правильно, что неразрешенный. Потому что едут очень молодые люди 17–18 лет. Если они два месяца тяжело работают, очень многие еще обманывают комиссию: слабое сердце или зрение, чтобы попасть в стройотряд, особенно парни. У нас тоже были девочки с плохим зрением, которые много лет ездили просто по липовым справкам. Ну вот, с одной стороны, организм получает такую нагрузку. И вот он в конце сезона напивается, например, водки. И были даже, нам рассказывали, смертельные случаи. Поэтому у нас никакого алкоголя никогда не было в нашем стройотряде. На день посвящения мы придумали «вино из одуванчиков». Мы варили с небольшим количеством красного вина. Повара наши придумывали какой-то смешной рецепт. И посвящаемые новички должны были это выпивать.
— А посвящение было в конце смены?
— Нет, посвящение было в середине. А в конце смены, я помню, конечно, был какой-то банкет. Как правило, с мужским стройотрядом, с которым мы дружили. Было принято дружить с другим стройотрядом и вместе с ними что-то проводить. Естественно, танцы были постоянно. Но алкоголь... Я не помню, чтобы девочки как-то пили. И даже никто особенно и не хотел, и не стремился.
— А общение стройотрядовцев, я так понимаю, было активным не только на целине?
— Ну да, у нас потом были браки, много было браков. У меня штук пять подруг вышли замуж за тех, с кем познакомились и завели роман в стройотрядах. Было много серьезных романов.
— А другие, кто не ездил на целину, завидовали вам?
— Завидовали. Мне казалось, что нам должны завидовать все. Но потом я узнавала, что где-то с начала 1970-х годов романтика стройотрядов стала терять свою привлекательность.
У меня подруги, которые младше меня лет на 10–15, вроде не так уж много, но которые в конце 1980-х начали учиться, они вообще не понимали этой романтики. Особенно их ужасало, что нет условий помыться. Я вообще не помню, чтобы это было какой-то проблемой. Естественно, как-то там элементарную гигиену по ходу дела можно было в тазике сделать. Как-то организм привыкает к условиям. Я только помню, что, конечно, была усталость уже в конце смены, большая усталость. И появлялись болячки. Например, известь могла попасть в глаза. И я помню, как работала недели три левой рукой мастерком, потому что битумом обварила правую руку. Мы же все время с битумом работали, а это очень опасно. У нас и мальчики обваривались. Колени, спина начинали болеть. Это тревожило, а вот гигиена...
В позднее советское время требования к гигиене были гораздо ниже. Никто не принимал душ каждый день и голову не мыли каждый день. Тем более мы понимали, что голова будет грязная, поэтому заматывали голову в несколько слоев платками, чтобы не попадала известка. На руках были всегда перчатки. Перчатки горели в работе со страшной силой, поэтому все запасались огромным количеством перчаток: по две, по три за раз надевали, потому что они рвались.
У меня подруги, которые младше меня лет на 10–15, вроде не так уж много, но которые в конце 1980-х начали учиться, они вообще не понимали этой романтики. Особенно их ужасало, что нет условий помыться. Я вообще не помню, чтобы это было какой-то проблемой. Естественно, как-то там элементарную гигиену по ходу дела можно было в тазике сделать. Как-то организм привыкает к условиям. Я только помню, что, конечно, была усталость уже в конце смены, большая усталость. И появлялись болячки. Например, известь могла попасть в глаза. И я помню, как работала недели три левой рукой мастерком, потому что битумом обварила правую руку. Мы же все время с битумом работали, а это очень опасно. У нас и мальчики обваривались. Колени, спина начинали болеть. Это тревожило, а вот гигиена...
В позднее советское время требования к гигиене были гораздо ниже. Никто не принимал душ каждый день и голову не мыли каждый день. Тем более мы понимали, что голова будет грязная, поэтому заматывали голову в несколько слоев платками, чтобы не попадала известка. На руках были всегда перчатки. Перчатки горели в работе со страшной силой, поэтому все запасались огромным количеством перчаток: по две, по три за раз надевали, потому что они рвались.
— Вы еще говорили, что стенгазеты делали. Когда было на это время, зачем вам нужны были стенгазеты?
— Всегда в отряде были люди, которые хорошо рисовали, потому что конкурс стенгазет тоже был. В нашем отряде всегда было очень много творческих людей. Я вот, например, всегда что-то сочиняла, кто-то песни писал. Нам просто нравилось делать стенгазету. Тогда это было принято — стенгазеты выпускали все факультеты. У нас на философском висела престижная газета «Логос». В газете были рассказы, стихи очень высокого качества. Люди самовыражались. А в стройотряде я завела моду: мы вели дневник, который где-то даже сохранился у меня. Каждый день записывали, что произошло в стройотряде, и тоже изгалялись в остроумии. Это все доставляло удовольствие.
— А эти газеты потом тоже, наверное, кто-то сохранял? Где-то архив, наверное, есть?
— Этого я не знаю, мне очень жалко. Фотоархив есть у моей подруги, она его даже оцифровала. Вообще, на философском факультете стройотрядов было несколько: было два мужских и один женский. Один мужской отряд назывался «Квадр», а другой «Товарищ».
— Квадр?
— Это строительный термин. Квадр — камень, который кладется в основании фундамента. Названия вообще придумывали всякие заковыристые.
О студенческом театре
— А студенческий театр был в университете, когда вы учились?
— Студенческий театр был. Мы даже недавно про него книгу издали. В 1970-е годы совсем молодой Леонид Анисимов, брат режиссера из Театра драмы Вячеслава Анисимова, пришел возглавить студенческий театр. В основном в труппе были филологи и философы. Сначала поставили «Чайку», а Леонид очень серьезно относился к делу. И там был прямо культ его. Ребята все его обожали, и они в театре дневали, ночевали. Им выделили помещение в здании университета на Куйбышева. Тогда там был Клуб культуры университета. Я не помню, как назывался театр. Может быть, даже названия никакого не было. Надо мне в книге посмотреть.
Они сначала поставили «Чайку», потом они ставили по рассказам Горького «Страсти-мордасти», «Иуду Искариота», задумывали поставить«Гамлета». Везде главные роли играл философ Сергей Зубарев, который был на курс старше меня. Он потом во МХАТ поступил и там учился.
Студенческий театр — это был совершенно перевернутый мир, там было все невероятно, сложно и интересно. Мы к ним ходили смотреть. Я все у них видела. Помещения для спектаклей были разные: на сцене была только «Чайка», а так спектакли были в каких-то аудиториях, специально освобожденных. Ребята очень подолгу репетировали, они в книге это вспоминают. Лет семь это все длилось, а потом закончилось: конфликт какой-то произошел. Леня Анисимов уехал в какой-то Приморский или Дальневосточный театр.
Но замечательно то, что студенческий наш театр настолько гремел, что когда приезжал на гастроли МХАТ с Олегом Ефремовым, мхатовцы приходили на спектакли и были в полном восторге, всех ребят пригласили к себе учиться. И даже устраивали показы студенческих спектаклей в Москве. Это было невероятно! Даже сохранились какие-то газетные вырезки.
Когда прошло очень много-много лет, одни из участников, Лева Шульман, предложил сделать книгу. Собрали интервью, мемуары, фотографии. В общем, они эту книгу издали два года назад. У нас в университете была презентация. У меня есть экземпляр этой книги.
Мне кажется, что это был первый студенческий театр в нашем университете. И это было как раз в те годы, когда я училась. Мы, конечно, ходили на спектакли и очень гордились ребятами.
Они сначала поставили «Чайку», потом они ставили по рассказам Горького «Страсти-мордасти», «Иуду Искариота», задумывали поставить«Гамлета». Везде главные роли играл философ Сергей Зубарев, который был на курс старше меня. Он потом во МХАТ поступил и там учился.
Студенческий театр — это был совершенно перевернутый мир, там было все невероятно, сложно и интересно. Мы к ним ходили смотреть. Я все у них видела. Помещения для спектаклей были разные: на сцене была только «Чайка», а так спектакли были в каких-то аудиториях, специально освобожденных. Ребята очень подолгу репетировали, они в книге это вспоминают. Лет семь это все длилось, а потом закончилось: конфликт какой-то произошел. Леня Анисимов уехал в какой-то Приморский или Дальневосточный театр.
Но замечательно то, что студенческий наш театр настолько гремел, что когда приезжал на гастроли МХАТ с Олегом Ефремовым, мхатовцы приходили на спектакли и были в полном восторге, всех ребят пригласили к себе учиться. И даже устраивали показы студенческих спектаклей в Москве. Это было невероятно! Даже сохранились какие-то газетные вырезки.
Когда прошло очень много-много лет, одни из участников, Лева Шульман, предложил сделать книгу. Собрали интервью, мемуары, фотографии. В общем, они эту книгу издали два года назад. У нас в университете была презентация. У меня есть экземпляр этой книги.
Мне кажется, что это был первый студенческий театр в нашем университете. И это было как раз в те годы, когда я училась. Мы, конечно, ходили на спектакли и очень гордились ребятами.
О преподавательской деятельности
— Вы сразу пошли преподавать в университет после окончания аспирантуры?
— Нет. Как я уже говорила, было распределение, но распределение было свободное. То есть распределяло не столько государство, сколько приезжали за товаром купцы из разных городов. Манком было, что через какое время дают место в аспирантуре, потому что аспирантура была только целевая. Просто так в аспирантуру было не поступить. Открытого конкурса не было. В аспирантуры посылали вузы, в которые распределяли выпускников. И тем более посылали тогда вузы, которые были в Сибири и на Дальнем Востоке, они могли посылать либо к нам в Свердловск, либо в Москву или в Ленинград.
Естественно, людям хотелось получить место в аспирантуре, потому что после защиты зарплата возрастала в два раза. Условно говоря, не 140 рублей, а 280. А если доцент получал 320–350 рублей, это считалось очень много. Плюс после защиты ставили в очередь на квартиру. В Свердловске, например, квартиру было не получить совсем никак. Их вообще не давали ни в каких вузах. Поэтому поехать куда-то в Сибирь или на Дальний Восток, в хороший город, где защищающийся сразу получает квартиру, особенно если у тебя уже есть семья, заманчиво было. Были распределения на Волгу в Горький, в Саратов, в Астрахань, в Куйбышев. Но при этом, если вы не хотите ехать, то открепиться несложно.
У меня друзья поехали в Тюмень. Я хотела поехать с ними, оторватьсяот родителей. Но родители меня не отпустили. В общем, я открепилась и к сентябрю оказалась без работы. Настроение было ужасное. Моя подруга устроилась секретарем директора в университете в ИПК, Институте повышения квалификации. И она сказала, что там есть место лаборанта, который будет отвечать за практику. Тогда на полгода приезжали на повышение квалификации преподаватели общественных наук, и нужно было их на экскурсии возить. В общем, хоть какая-то работа — место лаборанта с высшим образованием и зарплата 110 рублей.
Так прошло 4 года, перспектив не было, и я уже, честно говоря, думала менять профессию. Меня звали в школу № 104 вести театральную студию. Театр я люблю. Но он мне нравится на расстоянии, а не внутри институции. Я не пошла. Потом к нам пришел новый директор из обкома партии и решил мое место сократить. На самом деле, действительно могли без моего места обойтись. Я начала плакать. Руководство ко мне хорошо относилось, и спросили, чего я хочу. Я сказала то, что хотят все. Я сказала, что хочу в аспирантуру. Потому что у нас все хотели в аспирантуру, но никто не мог попасть.
Новый директор позвонил в Москву и в течение дня решил эту проблему. Мне нашли место и предложили выбрать кафедру. Я побежала к заведующему, к своему любимому Аркадию Федоровичу Еремееву, и он меня взял на мою любимую кафедру эстетики. Там я три года училась, защитилась вовремя, но я опять оказалась без работы, уже в 1986 году, потому что у меня же не было никакого распределения. Значит, соответственно, я окончила, я по-прежнему не член партии, привилегий нет. Я много преподавала по совместительству.
Новый директор позвонил в Москву и в течение дня решил эту проблему. Мне нашли место и предложили выбрать кафедру. Я побежала к заведующему, к своему любимому Аркадию Федоровичу Еремееву, и он меня взял на мою любимую кафедру эстетики. Там я три года училась, защитилась вовремя, но я опять оказалась без работы, уже в 1986 году, потому что у меня же не было никакого распределения. Значит, соответственно, я окончила, я по-прежнему не член партии, привилегий нет. Я много преподавала по совместительству.
Естественно, людям хотелось получить место в аспирантуре, потому что после защиты зарплата возрастала в два раза. Условно говоря, не 140 рублей, а 280. А если доцент получал 320–350 рублей, это считалось очень много. Плюс после защиты ставили в очередь на квартиру. В Свердловске, например, квартиру было не получить совсем никак. Их вообще не давали ни в каких вузах. Поэтому поехать куда-то в Сибирь или на Дальний Восток, в хороший город, где защищающийся сразу получает квартиру, особенно если у тебя уже есть семья, заманчиво было. Были распределения на Волгу в Горький, в Саратов, в Астрахань, в Куйбышев. Но при этом, если вы не хотите ехать, то открепиться несложно.
У меня друзья поехали в Тюмень. Я хотела поехать с ними, оторватьсяот родителей. Но родители меня не отпустили. В общем, я открепилась и к сентябрю оказалась без работы. Настроение было ужасное. Моя подруга устроилась секретарем директора в университете в ИПК, Институте повышения квалификации. И она сказала, что там есть место лаборанта, который будет отвечать за практику. Тогда на полгода приезжали на повышение квалификации преподаватели общественных наук, и нужно было их на экскурсии возить. В общем, хоть какая-то работа — место лаборанта с высшим образованием и зарплата 110 рублей.
Так прошло 4 года, перспектив не было, и я уже, честно говоря, думала менять профессию. Меня звали в школу № 104 вести театральную студию. Театр я люблю. Но он мне нравится на расстоянии, а не внутри институции. Я не пошла. Потом к нам пришел новый директор из обкома партии и решил мое место сократить. На самом деле, действительно могли без моего места обойтись. Я начала плакать. Руководство ко мне хорошо относилось, и спросили, чего я хочу. Я сказала то, что хотят все. Я сказала, что хочу в аспирантуру. Потому что у нас все хотели в аспирантуру, но никто не мог попасть.
Новый директор позвонил в Москву и в течение дня решил эту проблему. Мне нашли место и предложили выбрать кафедру. Я побежала к заведующему, к своему любимому Аркадию Федоровичу Еремееву, и он меня взял на мою любимую кафедру эстетики. Там я три года училась, защитилась вовремя, но я опять оказалась без работы, уже в 1986 году, потому что у меня же не было никакого распределения. Значит, соответственно, я окончила, я по-прежнему не член партии, привилегий нет. Я много преподавала по совместительству.
Новый директор позвонил в Москву и в течение дня решил эту проблему. Мне нашли место и предложили выбрать кафедру. Я побежала к заведующему, к своему любимому Аркадию Федоровичу Еремееву, и он меня взял на мою любимую кафедру эстетики. Там я три года училась, защитилась вовремя, но я опять оказалась без работы, уже в 1986 году, потому что у меня же не было никакого распределения. Значит, соответственно, я окончила, я по-прежнему не член партии, привилегий нет. Я много преподавала по совместительству.
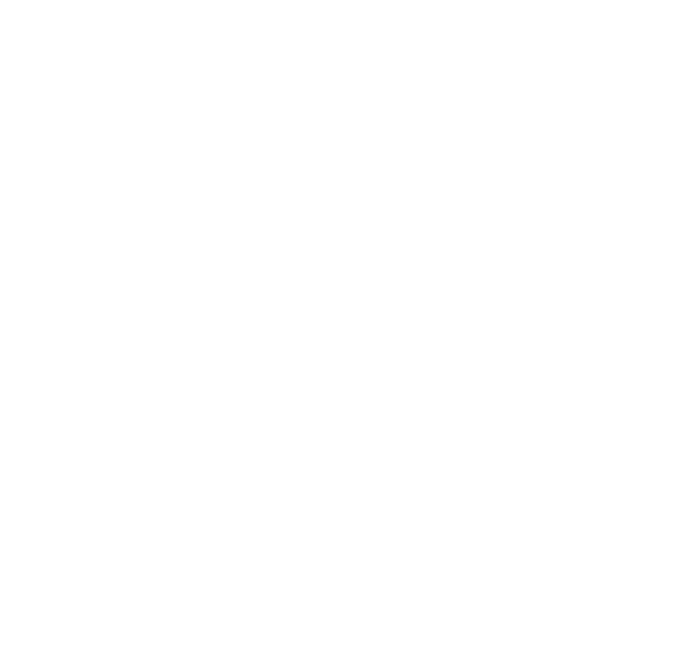
Выезд в совхоз на сбор моркови уже в должности лаборанта ИПК. Татьяна Круглова крайняя слева. 1979 г.
— Что преподавали?
— Эстетику. Я преподавала в училище медицинском, в юридическом преподавала, в сельскохозяйственном преподавала. Потом был год, когда я не работала, довольно много болела. У меня муж болел, я болела, мне было не до того. И в конце концов я снова пошла на нашу кафедру лаборантом, будучи кандидатом наук, потому что уволилась лаборантка. Я просто пошла, чтобы хоть что-то делать, чтобы с ума не сойти. Пошла лаборантом, мне там дали часы.
После Нового года выяснилось, что у нас одна преподавательница уходит в декрет. Меня взяли на ее место с удовольствием, потому что знали как облупленную. Я как бы с кафедры практически по факту никуда не уходила, все время там что-то делала. Взяли на время ее декрета, потом меня взяли на место другого преподавателя, который ушел в творческий отпуск на два года, потом еще на чье-то место. В общем, где-то в 39 лет я наконец получила свое место по конкурсу. Получила свое место и сразу ушла в докторантуру. Ну и после докторантуры я уже бессменно до сих пор работаю в университете.
После Нового года выяснилось, что у нас одна преподавательница уходит в декрет. Меня взяли на ее место с удовольствием, потому что знали как облупленную. Я как бы с кафедры практически по факту никуда не уходила, все время там что-то делала. Взяли на время ее декрета, потом меня взяли на место другого преподавателя, который ушел в творческий отпуск на два года, потом еще на чье-то место. В общем, где-то в 39 лет я наконец получила свое место по конкурсу. Получила свое место и сразу ушла в докторантуру. Ну и после докторантуры я уже бессменно до сих пор работаю в университете.
— То есть вы стали преподавать студентам в университете, когда вам было уже лет 30 получается?
— Да, с 1987 года. Мне был 31 год.
— Изменилась ли атмосфера студенчества за 38 лет?
— Изменилась очень сильно. Я считаю, что несколько студенческих волн было. В конце 1980-х годов, когда я начала работать, было очень интересно, потому что все бурлило и все было можно. Мы без конца на семинарах все обсуждали. Плюс разница по возрасту со студентами была не очень большая, потому что по-прежнему поступали взрослые после армии, а мне был 31 год. И вообще все печаталось, публиковалось. Мы уже не читали никакую марксистско-ленинскую эстетику, мы уже стали читать, что хотим, нам уже никто ничего не указывал. Столько новых предметов появилось. Гуманитарный университет организовался, где я тоже с самого начала участвовала и причастна была к этому в 1991 году. Много всего интересного происходило.
А потом, где-то года с 1993 стало плохо. Поскольку государство, дав нам свободу, на нас махнуло рукой. В 1990-е годы было такое ощущение, что государству не было никакого дела до высшего образования. Я считаю, что мы выжили только потому, что возникла некая сделка между родителями, их детьми и нами, преподавателями. Нам надо было всем как-то выживать. Родителям нужно было куда-то своих детей в какой-то инкубатор поместить, чтобы они не попали на улицу под криминал, чтобы они где-то еще 5 лет в приличном месте поучились, а нам шли хоть какие-то деньги.
Поэтому в 1990-е пошли платные студенты, а самое главное, философский потерял полностью свою престижность. Во-первых, от него из 100 человек набора сначала откололись научные коммунисты, группа в 50 человек, они создали социологический факультет. У нас осталось 50 человек, и тех мы не могли набрать на бюджет. Меньше всего людей интересовал тогда философский факультет. Те, которые к нам приходили, с трудом заманенные даже за деньги, были тихий ужас. Среди них, конечно, были и хорошие ребята. Но было очень много людей странных, немотивированных, равнодушных. Психологически было очень тяжело, потому что вообще было непонятно, как читать, что читать, что это за люди пришли.
А потом, где-то года с 1993 стало плохо. Поскольку государство, дав нам свободу, на нас махнуло рукой. В 1990-е годы было такое ощущение, что государству не было никакого дела до высшего образования. Я считаю, что мы выжили только потому, что возникла некая сделка между родителями, их детьми и нами, преподавателями. Нам надо было всем как-то выживать. Родителям нужно было куда-то своих детей в какой-то инкубатор поместить, чтобы они не попали на улицу под криминал, чтобы они где-то еще 5 лет в приличном месте поучились, а нам шли хоть какие-то деньги.
Поэтому в 1990-е пошли платные студенты, а самое главное, философский потерял полностью свою престижность. Во-первых, от него из 100 человек набора сначала откололись научные коммунисты, группа в 50 человек, они создали социологический факультет. У нас осталось 50 человек, и тех мы не могли набрать на бюджет. Меньше всего людей интересовал тогда философский факультет. Те, которые к нам приходили, с трудом заманенные даже за деньги, были тихий ужас. Среди них, конечно, были и хорошие ребята. Но было очень много людей странных, немотивированных, равнодушных. Психологически было очень тяжело, потому что вообще было непонятно, как читать, что читать, что это за люди пришли.
— Вы у нас читали на истфаке культурологию. Я любила ваши лекции. Я обожала лекции Харитонова, ваши, Кропотова, Перцева.
— Для меня читать у историков была хоть какая-то отдушина. А вот на своем родном философском была очень странная публика. Те, кто приходил писать курсовые, вообще были какие-то люди, ну что называется, совсем не мои. Видите, на истфаке не было никакой обратной связи, не было же семинаров, ничего. Мы просто читали лекции. Но тем не менее все равно мы читали, что хотели, слушали нас хорошо. До сих пор какая-то благодарность приходит.
В 1995 году, только получив по конкурсу свое место, я должна была до 40 лет уйти в дневную докторантуру. То есть на 3 года отпускали с сохранением 80% зарплаты. Очень было выгодно. Я продолжала где-то совмещать: работала в гимназии гуманитарной и в Гуманитарном университете.
В 1999 году вернулась на факультет. Первый год тоже был очень сложным, отвыкла за три года от студентов. И уже опять что-то изменилось, потому что студенты — это очень подвижный такой камертон. Надо понять, что меняется. Где-то год ушел у меня на адаптацию. Года с 2001 года все наладилось у меня с ними, был какой-то контакт. Мне было интересно. И так продолжалось примерно до 2019–2020, все было как-то более-менее понятно.
Я просто поняла, что не надо ждать многого. Я высчитывала, что мой КПД — это процентов 25 от потока, которых я чему-то научила, и в сессию могла в этом убедиться. У меня за это время появились ученики, которых я довела начиная с 2000 года сначала до бакалаврской, потом до магистерской, потом до диссертации, даже одну студентку до докторской. И это очень греет. То есть я за собой числю человек 25, с кем я была в контакте, с кем мне было интересно, кого я чему-то научила, и которые тоже считают, что я чему-то научила. И которые меня научили. То есть про кого я могу сказать, что они мои ученики.
В 1995 году, только получив по конкурсу свое место, я должна была до 40 лет уйти в дневную докторантуру. То есть на 3 года отпускали с сохранением 80% зарплаты. Очень было выгодно. Я продолжала где-то совмещать: работала в гимназии гуманитарной и в Гуманитарном университете.
В 1999 году вернулась на факультет. Первый год тоже был очень сложным, отвыкла за три года от студентов. И уже опять что-то изменилось, потому что студенты — это очень подвижный такой камертон. Надо понять, что меняется. Где-то год ушел у меня на адаптацию. Года с 2001 года все наладилось у меня с ними, был какой-то контакт. Мне было интересно. И так продолжалось примерно до 2019–2020, все было как-то более-менее понятно.
Я просто поняла, что не надо ждать многого. Я высчитывала, что мой КПД — это процентов 25 от потока, которых я чему-то научила, и в сессию могла в этом убедиться. У меня за это время появились ученики, которых я довела начиная с 2000 года сначала до бакалаврской, потом до магистерской, потом до диссертации, даже одну студентку до докторской. И это очень греет. То есть я за собой числю человек 25, с кем я была в контакте, с кем мне было интересно, кого я чему-то научила, и которые тоже считают, что я чему-то научила. И которые меня научили. То есть про кого я могу сказать, что они мои ученики.
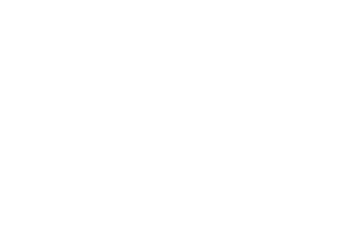
Костюмированный новый год на кафедре. 2010-е гг.
— Как у человека активной студенческой тусовки, у вас уже как у преподавателя остается интерес к студенческой тусовке, которая происходила и происходит?
— В 1990-е студенческая жизнь на факультете еще была, потому что за пределами университета не так много было интересного, так же, как в мои годы учебы. Очень много интересного происходило в университете. Университет был как навигатор.
А вот в 2000-е годы уже пошло иначе. Интерес у людей переместился вне стен универа. Я убедилась, что людей на курсе не связывает вообще ничего: у них нет никакой общей жизни. Понятно, что сегодня есть общий чат, но он выполняет только какие-то служебные функции. Очень часто они не знают даже кого как зовут. Немыслимо! У студентов самое интересное сегодня происходит за стенами университета. Хотя я наблюдаю, что все равно есть какие-то компании, общности, которые дороги друг другу.
Условно говоря, сейчас нет никаких студенческих организаций. В 1990-е годы был студенческий профком, они иногда что-то затевали. Их никто не заставлял что-то делать, эта была инициатива студентов. Они организовывали День философа, День первокурсника. Сейчас вообще ничего нет. Ничего не прививается.
Пробовали киноклубы делать. Всегда есть 2–3 энтузиаста, но не нарабатывается команда, не складывается тусовка. А самое главное, что они и нас, преподавателей, уже не очень зовут. Раньше меня звали: «Татьяна Анатольевна, давайте сделаем интернет-газету. Будем там печатать свои стихи, рассказывать все, что хотим». Я им даю материал, потому что такие попытки уже были. У меня уже целая папка, что мне студенты приносили. Очень стоящие иногда вещи. И вот уже это три или четыре раза была такая попытка создать интернет-газету, но это ничем не заканчивается. Киноклуб тоже начинаем проводить по их же просьбе. Сначала приходит человек 20, потом 10. И потом через 5–6 занятий нас сидит трое. Все время где-то что-то есть более важное, интересное, какое-то манкое поле притяжения, но не сам университет. Никакой общей жизни совсем нет.
Я, если зовут на какое-нибудь мероприятие, всегда откликаюсь. Например, два года назад магистрант у нас был, который как раз у меня писал, лаборантом работал на кафедре, очень активный парень. Они с однокашником придумали провести антизащиту магистерских. Просто блеск, как они это сделали. Но опять же, они позвали мало людей, нас человек 20 сидело, и мне жалко, что это мероприятие пропало, потому что это было невероятно остроумно. Два года прошло, я говорю уже нашим выпускникам, просто рассказываю про это. Они загорелись, буквально дня за три тоже сделали подобную антизащиту. Она была у нас в понедельник. Тоже блестяще получилось: остроумно, умно, ну просто здорово!
А вот в 2000-е годы уже пошло иначе. Интерес у людей переместился вне стен универа. Я убедилась, что людей на курсе не связывает вообще ничего: у них нет никакой общей жизни. Понятно, что сегодня есть общий чат, но он выполняет только какие-то служебные функции. Очень часто они не знают даже кого как зовут. Немыслимо! У студентов самое интересное сегодня происходит за стенами университета. Хотя я наблюдаю, что все равно есть какие-то компании, общности, которые дороги друг другу.
Условно говоря, сейчас нет никаких студенческих организаций. В 1990-е годы был студенческий профком, они иногда что-то затевали. Их никто не заставлял что-то делать, эта была инициатива студентов. Они организовывали День философа, День первокурсника. Сейчас вообще ничего нет. Ничего не прививается.
Пробовали киноклубы делать. Всегда есть 2–3 энтузиаста, но не нарабатывается команда, не складывается тусовка. А самое главное, что они и нас, преподавателей, уже не очень зовут. Раньше меня звали: «Татьяна Анатольевна, давайте сделаем интернет-газету. Будем там печатать свои стихи, рассказывать все, что хотим». Я им даю материал, потому что такие попытки уже были. У меня уже целая папка, что мне студенты приносили. Очень стоящие иногда вещи. И вот уже это три или четыре раза была такая попытка создать интернет-газету, но это ничем не заканчивается. Киноклуб тоже начинаем проводить по их же просьбе. Сначала приходит человек 20, потом 10. И потом через 5–6 занятий нас сидит трое. Все время где-то что-то есть более важное, интересное, какое-то манкое поле притяжения, но не сам университет. Никакой общей жизни совсем нет.
Я, если зовут на какое-нибудь мероприятие, всегда откликаюсь. Например, два года назад магистрант у нас был, который как раз у меня писал, лаборантом работал на кафедре, очень активный парень. Они с однокашником придумали провести антизащиту магистерских. Просто блеск, как они это сделали. Но опять же, они позвали мало людей, нас человек 20 сидело, и мне жалко, что это мероприятие пропало, потому что это было невероятно остроумно. Два года прошло, я говорю уже нашим выпускникам, просто рассказываю про это. Они загорелись, буквально дня за три тоже сделали подобную антизащиту. Она была у нас в понедельник. Тоже блестяще получилось: остроумно, умно, ну просто здорово!
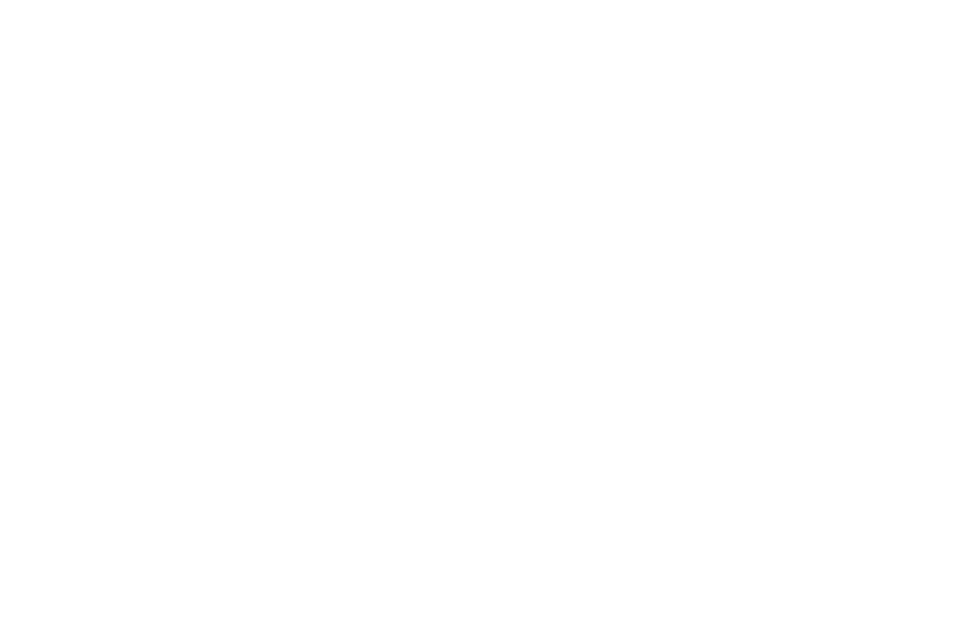
Юбилей философского факультета. В первом ряду в центре декан Александр Владимирович Перцев. 2015 г.
— В годы вашей бурной студенческой жизни выход в культурное пространство города насколько был частым? Вы посещали театры, концерты?
— Очень активно посещали. Во-первых, было принято и прилично ходить в филармонию. Конечно, ходили не все. Многие ребята с матмеха ходили. Мы ходили с подругой Леной Трубиной практически раз в неделю. Тогда работали очень заметные дирижеры-новаторы: Андрей Борейко, Вадим Кожин. Хотя это были 1970-е годы, но филармония была очень передовой институцией: много звучало современной музыки, много приезжало звезд первой величины. Филармония это был такой прямо космополитический проект, открытый миру. И попасть студентам всегда можно было. В театры я ходила на премьеры, но предпочитала драматические спектакли. Я очень любила ТЮЗ, нашу драму. Я тогда еще как-то не очень критически к нашим театрам относилась. Театр кукол тоже всегда интересно работал.
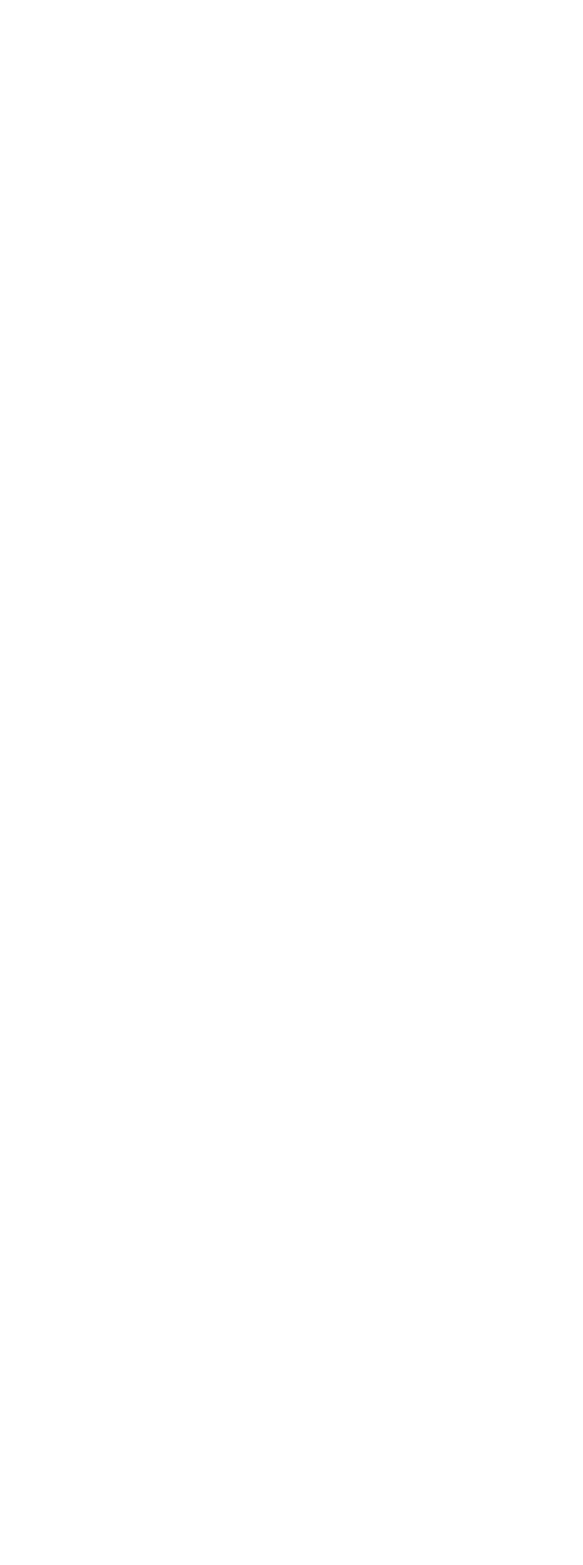
С подругой Еленой Трубиной. Вторая половина 1970-х гг.
— А родители как к вашей активности относились?
— Они хуже всего относились к походам. Я же еще и туристка была. У нас была своя туристическая компания, мы ходили обязательно на майскиепраздники в какие-нибудь горы. Родители были против туризма, потому что очень боялись, что я с какой-нибудь скалы сорвусь. А стройотряд разрешали, не запрещали. Они считали, что так положено. Туризм — это как бы выбор, а трудовой семестр обязательно. То, что я могу пойти в другое место во время трудового семестра, я им даже не говорила. Например, можно было пойти в соцлабораторию и остаться в городе. Ну и потом, я когда первый раз съездила и потом на свои заработанные деньги поехала с мамой отдыхать на юг, а на другую мою зарплату мама мне сделала пальто, я думаю, что для родителей мои заработки были облегчением.
— Когда учиться успевали при всей вашей активности?
— Как-то вот успевали. Но я, надо сказать, училась очень неровно. И училась только тому, что мне нравилось. Я не была уже, как в школе, отличницей. У меня в дипломе есть две тройки. Когда студенты начинают плакать и выпрашивать оценки на экзамене, если я ставлю четверки, то я им говорю: «Смотрите, у меня в дипломе две тройки. И вот я стою перед вами, доктор философских наук, и вам преподаю».
— Спасибо вам, Татьяна Анатольевна, за интереснейший разговор.
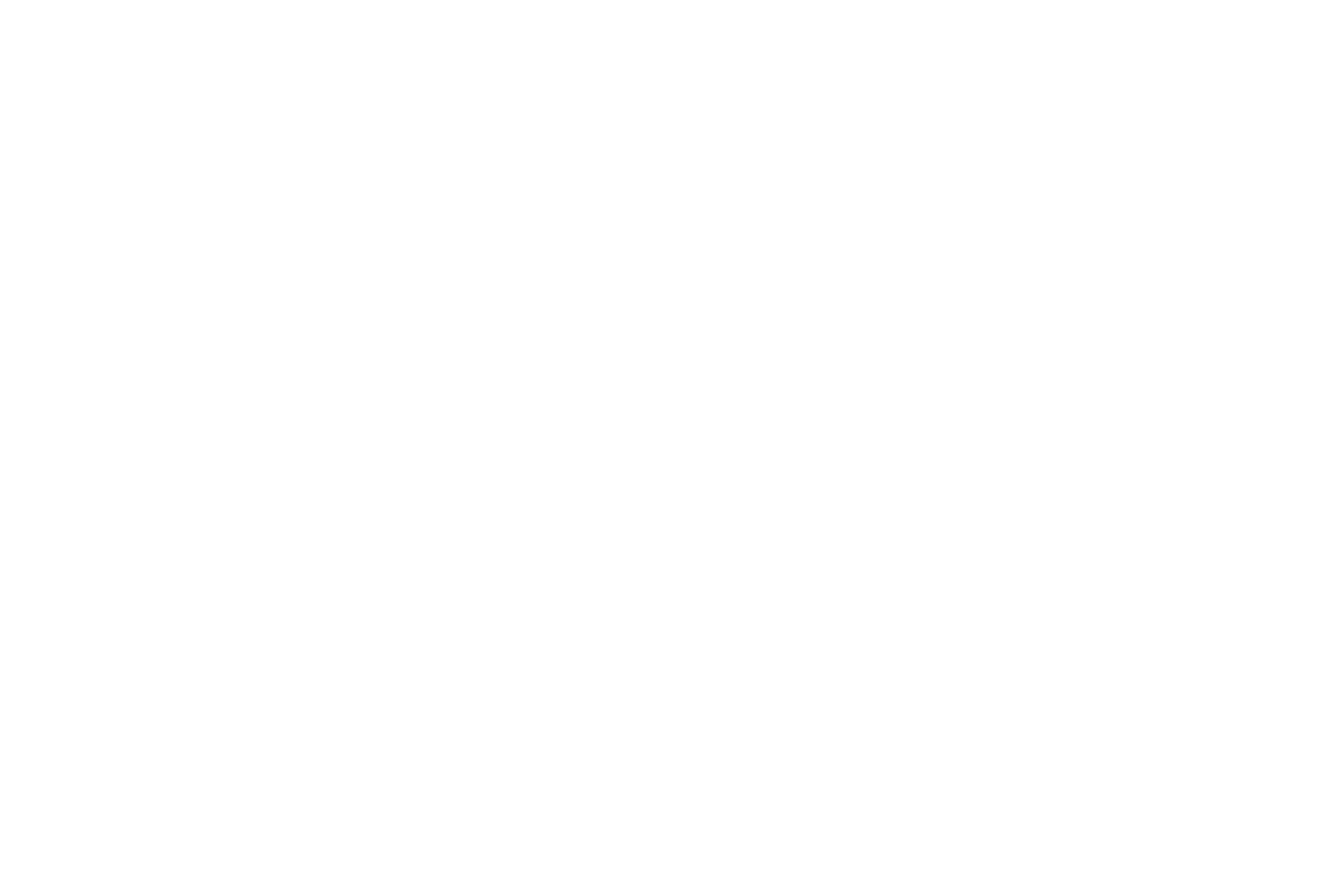
Татьяна Анатольевна с дочерью и внучкой 2020 г.
