И к сцене вечная любовь...
Беседа с Яниной Ивановной Кадочниковой
Беседовала: Ирина Нечаева
Фотоархив героя публикации
Фотограф: Алиса Болденкова
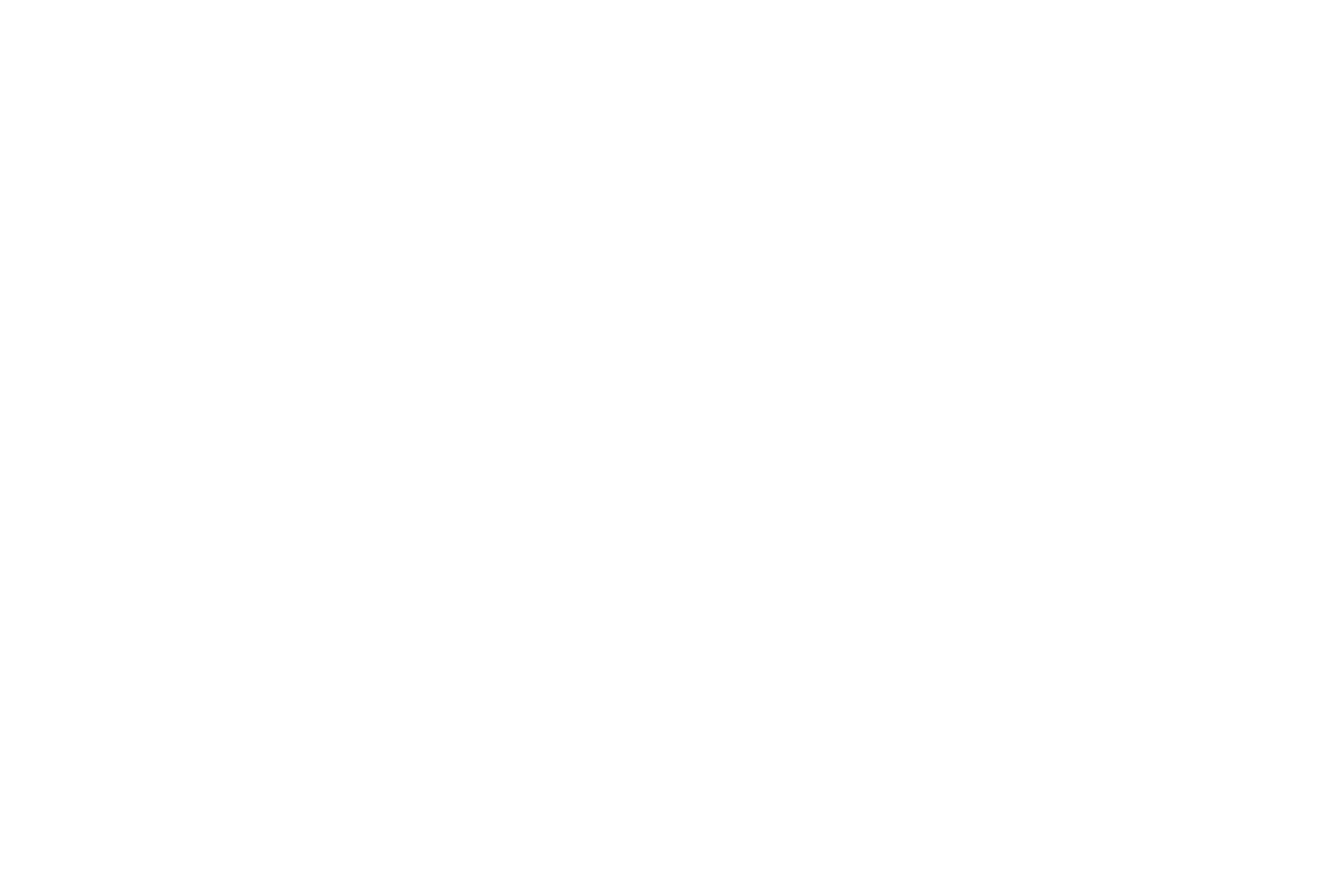
Янина Кадочникова в фойе ТЮЗа. 2025 г.
Янина Ивановна Кадочникова приехала в Свердловск из Белоруссии, работала учителем, пионервожатой в школе, затем возглавляла Дом пионеров Октябрьского района, с 1984 по 2010 год работала директором Театра юного зрителя. С 2010 по 2024 год была заместителем председателя Областного совета ветеранов.
Янина Ивановна рассказывает о том, как она приехала в Свердловск, о работе со школьниками, о жизни Театра юного зрителя в непростой период перемен, о фестивале «Реальный театр», о коллективе театра, об отношениях с администрацией города, о патриотическом воспитании молодежи в наше время.
Янина Ивановна рассказывает о том, как она приехала в Свердловск, о работе со школьниками, о жизни Театра юного зрителя в непростой период перемен, о фестивале «Реальный театр», о коллективе театра, об отношениях с администрацией города, о патриотическом воспитании молодежи в наше время.
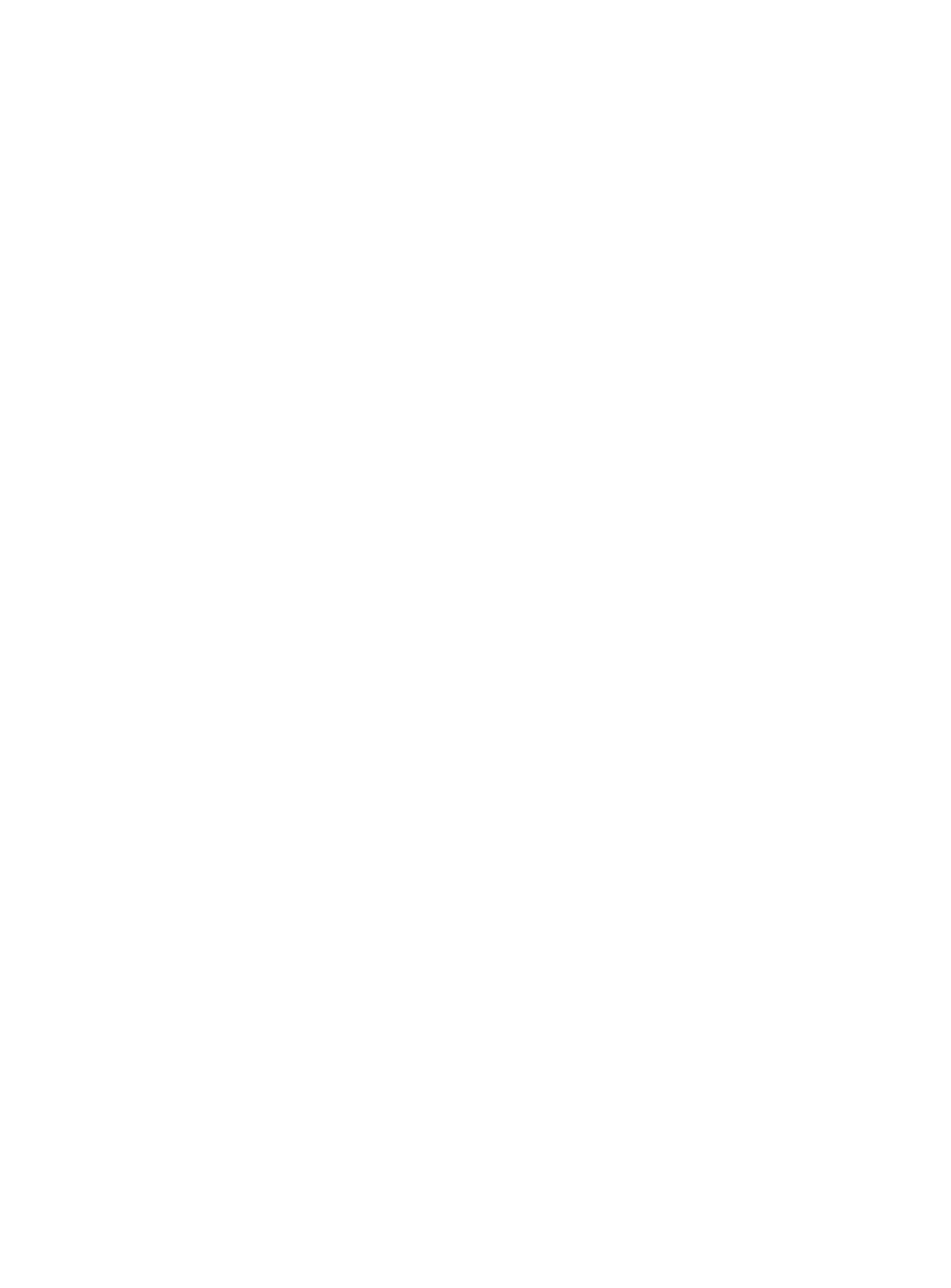
Янина Кадочникова. 1970-е гг.
— Мне знакомо Ваше лицо, Ирина...
— Мы 15 лет назад делали с Открытым студенческим театром проект «Письма войны». Вы посодействовали, чтобы нам дали костюмы. И мы на площадке перед ТЮЗом читали письма фронтовиков домой, а вы были нашим зрителем.
— Помню, помню...
— Да, и мы потом даже сделали спектакль «Письма войны», который несколько раз показывали в УрГУ благодаря вашей поддержке. Огромное вам спасибо за это, Янина Ивановна!
Я влюбилась в театр, благодаря спектаклям ТЮЗа. А для вас, человека, который долгие годы был его директором, он значит очень многое.
Но прежде чем поговорить о вашей работе в театре, расскажите, пожалуйста, как вы появились в Свердловске? Вы ведь не из Свердловска родом...
Я влюбилась в театр, благодаря спектаклям ТЮЗа. А для вас, человека, который долгие годы был его директором, он значит очень многое.
Но прежде чем поговорить о вашей работе в театре, расскажите, пожалуйста, как вы появились в Свердловске? Вы ведь не из Свердловска родом...
— Из Белоруссии. Родилась на границе с Польшей, в Гродненской области, в поселке Лунна. Я выросла там, закончила школу.
— А в каком году вы родились?
— В сороковом.
— Вы оккупацию в годы войны пережили?
— Да, но я ее не помню, маленькая была. После школы я поступила в Минский педагогический университет, в те годы это был еще институт. Училась хорошо, на повышенную стипендию. Когда приезжала к родителям на каникулы, познакомилась с офицером Александром Кадочниковым, потрясающе красивым молодым человеком, который начал ухаживать за мной. Когда мне оставалось еще учиться полтора года, Кадочников попросил у родителей моей руки. Они тогда долго с папой говорили, и, видимо, папа дал добро с условием, что мы поженимся только после того, как я закончу учиться в институте, и тогда перееду в Свердловск. Но у меня получилось перевестись из Минска на последний курс Свердловского педагогического института, который был тогда на Карла Либкнехта. Там я и доучивалась. Приехала в Свердловск на поезде. Саша меня встречал, за спиной он прятал букет цветов. Тогда было не очень принято показывать на людях свои чувства.
— Какой факультет вы окончили в институте?
— Исторический факультет.
— О, мы с вами коллеги. Я окончила истфак в УрГУ.
— Да, вот окончила. Друзья у меня появились здесь хорошие: студенты, которые меня быстро приняли в свой коллектив. Я, на удивление всем, единственная на последнем курсе писала диктанты по русскому языку на пятерки. Я русский очень хорошо знала, хотя по происхождению полячка.
Папа и мама были религиозные люди, католики. И они очень тесно общались с нашим костелом, где был орган. Орган был не механический, а ручной. Я любила бывать в этом костеле. Там был ксендз, так священника у нас называют. У ксендза была хорошая библиотека, и я все читала в подлинниках на русском языке: Горький, Толстой... Он мне давал книги, и я их читала до пяти утра. И отчасти благодаря этому хорошо владела русским языком. В институт поступила очень хорошо и училась хорошо.
Меня до сих пор помнят в посёлке Лунно. Теперь там есть музей, и в нем мои фотографии... Когда я стала работать директором театра, брат у меня, его уже нет в живых, ни сестры, ни брата... брат все, что я посылала, приносил в музей. Ему хотелось всем показать, кем я стала без всяких связей, благодаря моим способностям. Время-то было такое, ну нормальное было время... Брат все время всем показывал и доказывал, что Россия — это мы. Это мы, это наша дружба, это наше святое — юность, детство. И то, что я сюда поехала работать без всяких связей, и все у меня хорошо сложилось.
Папа и мама были религиозные люди, католики. И они очень тесно общались с нашим костелом, где был орган. Орган был не механический, а ручной. Я любила бывать в этом костеле. Там был ксендз, так священника у нас называют. У ксендза была хорошая библиотека, и я все читала в подлинниках на русском языке: Горький, Толстой... Он мне давал книги, и я их читала до пяти утра. И отчасти благодаря этому хорошо владела русским языком. В институт поступила очень хорошо и училась хорошо.
Меня до сих пор помнят в посёлке Лунно. Теперь там есть музей, и в нем мои фотографии... Когда я стала работать директором театра, брат у меня, его уже нет в живых, ни сестры, ни брата... брат все, что я посылала, приносил в музей. Ему хотелось всем показать, кем я стала без всяких связей, благодаря моим способностям. Время-то было такое, ну нормальное было время... Брат все время всем показывал и доказывал, что Россия — это мы. Это мы, это наша дружба, это наше святое — юность, детство. И то, что я сюда поехала работать без всяких связей, и все у меня хорошо сложилось.
— А родители чем занимались у вас?
— Они были крестьяне. В Свердловске я никого не знала, когда приехала. Но моя упёртость в жизни, мое отношение к жизни, к людям давали мне возможность самостоятельно вот так вот проходить, проходить, проходить, и в итоге очутиться в этом чудесном театре.
— Вы в начале 1950-х приехали в Свердловск?
Нет, я приехала в начале 1960-х. Я окончила институт, а затем было распределение. У меня муж был военным, и я имела право выбрать, где сама захочу работать. Тогда же были направления: направляли в область работать. Мы ехали работать по направлению. Я область не знала, город Свердловск тоже еще плохо знала. Спросила у однокурсников, куда они поедут. Они ответили, что в Косорыловку. Я и сказала ректору на распределении, что мне без разницы, где работать: в городе Свердловске или в Косорыловке. В результате я пошла в школу № 76 в Свердловске. Сама нашла эту школу, потому что жила недалеко.
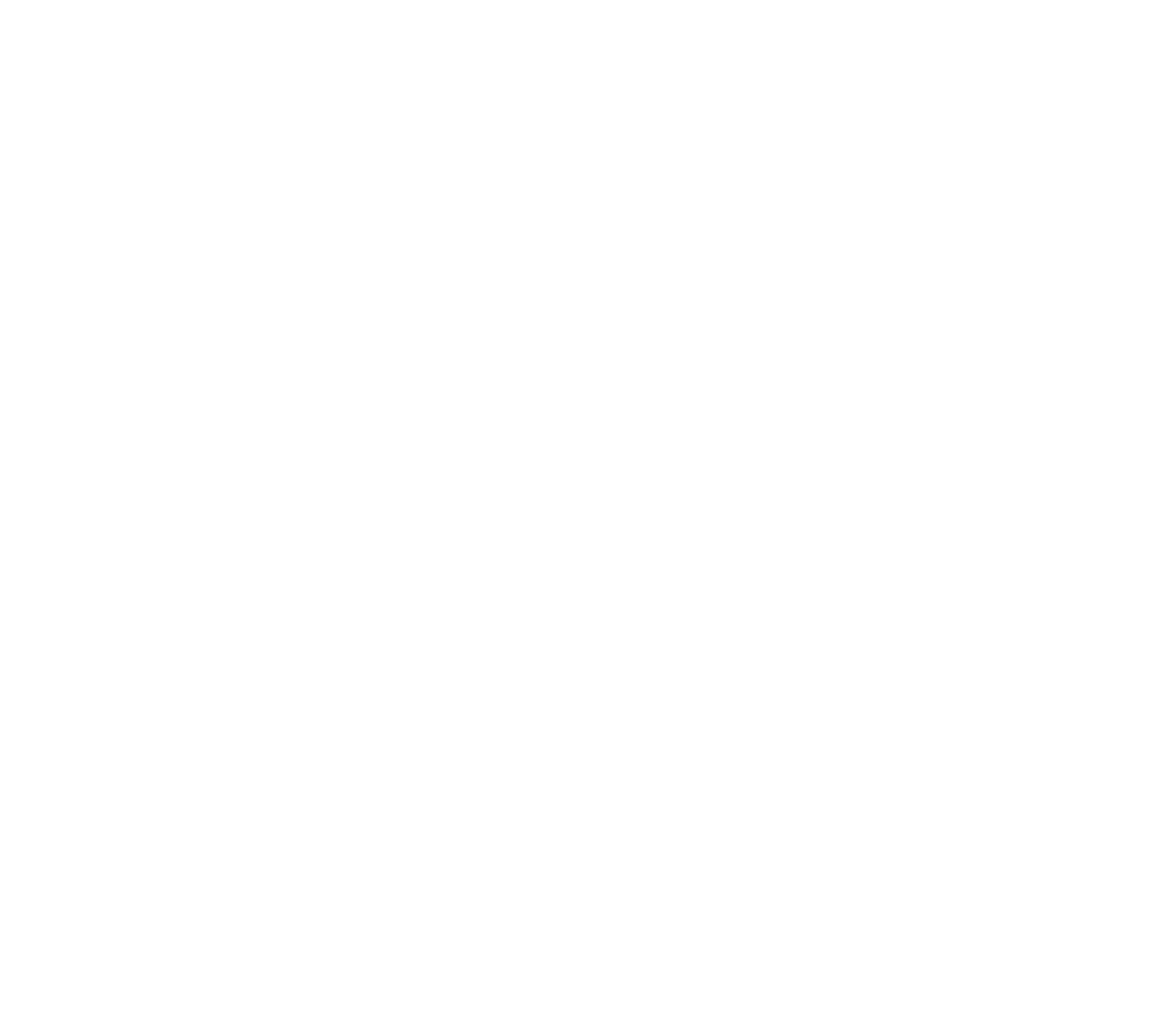
Янина Кадочникова.
Кон. 1980-х - нач. 1990-х гг.
Кон. 1980-х - нач. 1990-х гг.
— В каком районе вы жили?
— В Октябрьском районе. И я устроилась старшей пионервожатой. Преподавала историю в четвертых и пятых классах. Удивительные были отношения с педагогами, но особенно мне нравилось общение со школьниками, со старшеклассниками. Вот Саша Левин у меня учился (Александр Юрьевич Левин, почетный гражданин города Екатеринбурга, председатель Свердловского творческого союза журналистов — прим. ред.). Саша и его будущая супруга были мои самые активные комсомольцы того времени.
Когда я начала работать в школе № 76, то хотела какие-то свои традиции ввести. Например, я собирала по несколько старших классов, и происходил доверительный разговор между старшеклассниками и нами, учителями. Для меня это было очень важно. Я приехала с Запада, там были несколько другие отношения. Когда была в Минском педагогическом институте, часто бывала в Польше, писала работу «Изучение трудов Крупской» в Польше.
Когда я начала работать в школе № 76, то хотела какие-то свои традиции ввести. Например, я собирала по несколько старших классов, и происходил доверительный разговор между старшеклассниками и нами, учителями. Для меня это было очень важно. Я приехала с Запада, там были несколько другие отношения. Когда была в Минском педагогическом институте, часто бывала в Польше, писала работу «Изучение трудов Крупской» в Польше.
— А в чем отличие было отношений?
— У нас в Минске было более раскованно, более демократично. По крайней мере, мне так показалось. Вот я и организовывала разговоры по душам, когда учителя и ученики могли лучше узнать друг друга. Во время одного из таких разговоров ребята меня спросили: «Янина Ивановна, а как вы попали сюда к нам? Что вас привело к нам на Урал?»
Я им рассказала, что у меня на родине есть такая удивительная легенда. Я ведь родилась на день Янки Купалы. И у нас была такая традиция: девушки собирались по вечерам, плели веночки и пускали в речку. И куда приплывет венок, там и замуж девушка выйдет. Вот мой веночек меня и привел на Урал. А Боря Коган, был такой у нас удивительный школьник, он мне и говорит: «Янина Ивановна! Извините, а от вашего Минска до нашего Свердловска никакого водного пути нет». А я не растерялась и ответила: «А мой венок за любовью по сухому пути дошел до Свердловска». Ну вот такие были наши отношения с ребятами, доверительные.
Я очень люблю Беларусь, любила, люблю, и вообще это для меня родина первая, а здесь вторая. Я часто выступаю в белорусской диаспоре, до сих пор еще там работаю.
Я им рассказала, что у меня на родине есть такая удивительная легенда. Я ведь родилась на день Янки Купалы. И у нас была такая традиция: девушки собирались по вечерам, плели веночки и пускали в речку. И куда приплывет венок, там и замуж девушка выйдет. Вот мой веночек меня и привел на Урал. А Боря Коган, был такой у нас удивительный школьник, он мне и говорит: «Янина Ивановна! Извините, а от вашего Минска до нашего Свердловска никакого водного пути нет». А я не растерялась и ответила: «А мой венок за любовью по сухому пути дошел до Свердловска». Ну вот такие были наши отношения с ребятами, доверительные.
Я очень люблю Беларусь, любила, люблю, и вообще это для меня родина первая, а здесь вторая. Я часто выступаю в белорусской диаспоре, до сих пор еще там работаю.
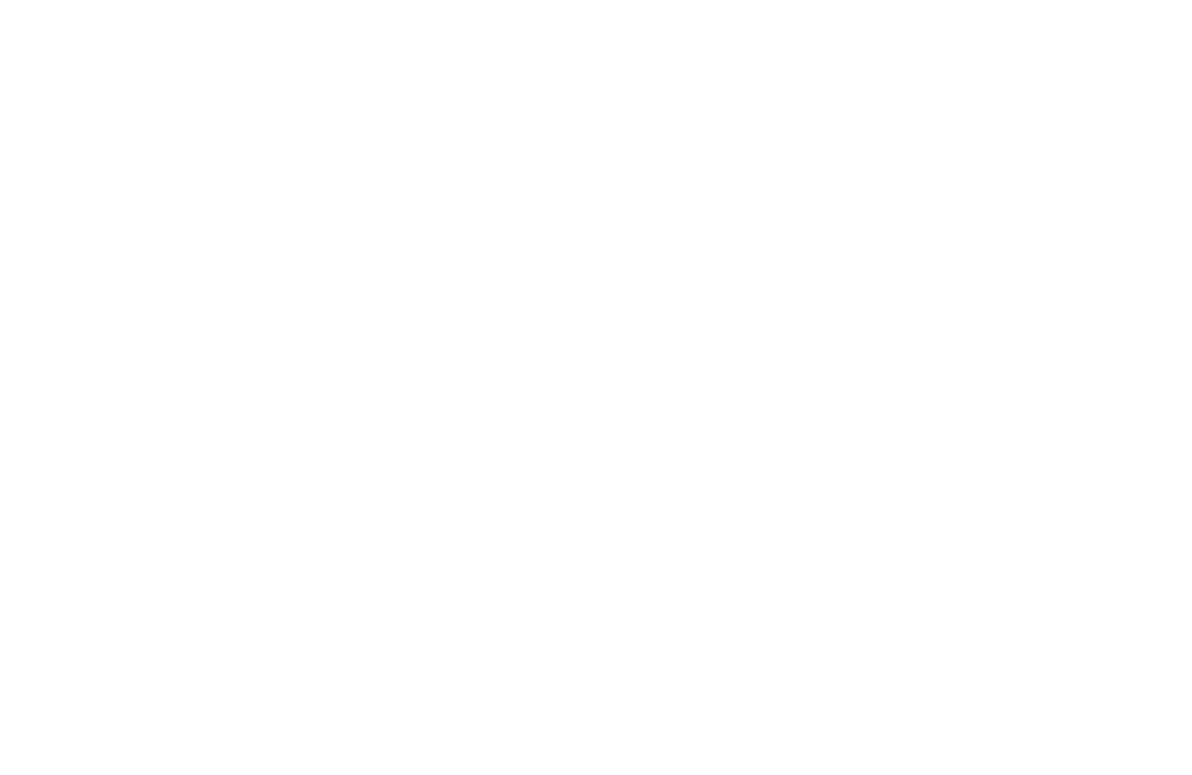
На родине в Белоруссии.
2000-е гг.
2000-е гг.
— Расскажите, пожалуйста, как вы, имея опыт работы в школе, стали директором театра.
— Случилось это так. Вера Высокинская, мамочка нашего бывшего главы города Саши Высокинского, тогда руководила комсомолом Октябрьского района. Она настояла, чтобы я перешла из 76-й школы в Октябрьский Дом пионеров. И я там стала работать директором. Ой, чего мы только не проводили в этом Октябрьском районе, боже мой, что мы только не проводили!
— А где Дом пионеров находился?
— Находился Дом пионеров на улице Розы Люксембург. Здание совсем было в нехорошем состоянии. Удалось получить другое здание под Дом пионеров: нам передали здание восьмой школы. После этого там был капитальный ремонт. Его я делала со своими сотрудниками. И помогали наши предприятия, которые были в Октябрьском районе: мне все директора открывали двери, когда я работала со школьниками, с пионерией. В этом Доме пионеров был первый кружок картинга, которого нигде не было в городе Екатеринбурге. И, конечно, множество мероприятий проводили. Это серьезные такие были годы, годы моей молодости. Можно это время по-разному судить, но это было время, когда мы безоговорочно верили. Мы верили в партию, мы верили в комсомол, мы верили в идеалы. Наша юность была отдана всему этому.
— Это какой период работа в Доме пионеров — конец 1960-х?
— Да, конец 1960-х — 1970-е годы.
— Таким образом у вас возник огромный опыт руководства...
— ...и культуры. И когда Михаил Вячеславович Сафронов уходил из Театра юного зрителя, то его должность предложили мне.
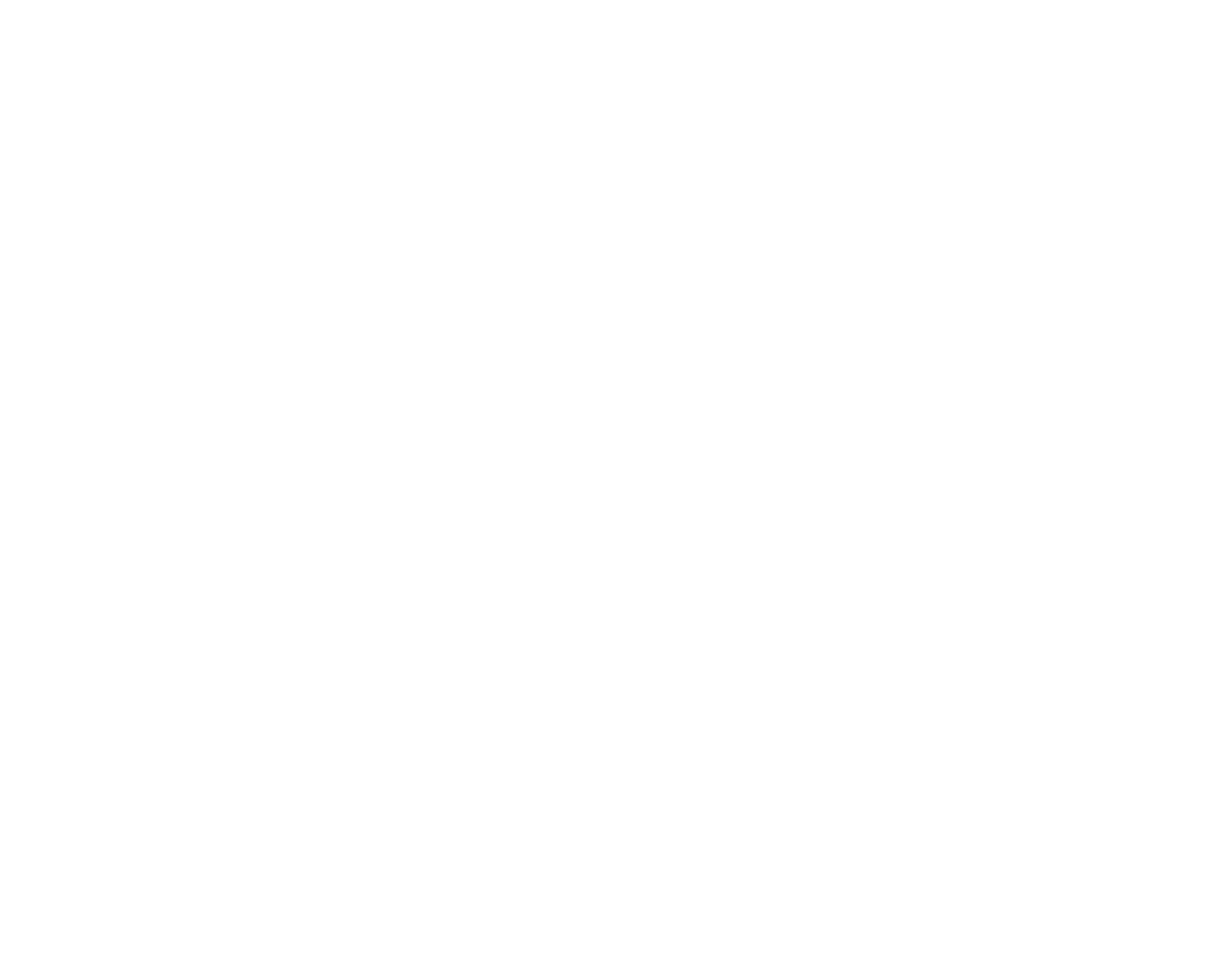
Трио легендарных тюзовских директоров. Слева направо: Янина Кадочникова, Михаил Сафронов, Ирина Петрова.
1980-е гг.
1980-е гг.
— Куда ушел Сафронов?
— Михаил Вячеславович потом пошел работать в Дом актера. Был в обкоме партии на должности инструктора отдела культуры, а потом был начальником областного управления культуры. Тогда еще не было министерства культуры. Был директором Драмтеатра, Театра музыкальной комедии. Многие годы возглавлял Свердловское отделение Союза театральных деятелей России. Принимая после Сафронова должность в ТЮЗе, я попала в нелегкую ситуацию: его любили артисты и сначала они негативно ко мне отнеслись.
— А когда вы сменили Михаила Вячеславовича?
— В сентябре 1984 года. Я приехала из отпуска с юга, меня пригласил горком партии и сделал серьезное предложение: стать директором Театра юного зрителя. Но поскольку я была в Доме пионеров, поскольку я была погружена в ситуации детства, ситуации его познания, осмысления детских проблем, я приняла это предложение. Раньше же утверждали нас на бюро обкома партии, и Борис Николаевич Ельцин меня утверждал. Помню, я сильно волновалась при встрече: Ельцин задавал много вопросов. И утвердили меня директором Театра юного зрителя. Это была для меня не награда, а самый высокий уровень требовательности в работе.
Все время моего директорства, сколько мы работали, никогда спокойно не было: все были проблемы, но они были вот такие (показывает большой палец). И вот когда я пришла работать в театр, Михаил Вячеславович очень ревниво к этому относился. Потом мы с ним стали большими друзьями. И какие бы вопросы у нас ни возникали, мы все время тихонечко с ним советовались.
ТЮЗ — это потрясающая труппа. Потрясающая! Это лучшая труппа России. И лучший театр на сегодня, я думаю так.
Все время моего директорства, сколько мы работали, никогда спокойно не было: все были проблемы, но они были вот такие (показывает большой палец). И вот когда я пришла работать в театр, Михаил Вячеславович очень ревниво к этому относился. Потом мы с ним стали большими друзьями. И какие бы вопросы у нас ни возникали, мы все время тихонечко с ним советовались.
ТЮЗ — это потрясающая труппа. Потрясающая! Это лучшая труппа России. И лучший театр на сегодня, я думаю так.
— А я еще хочу спросить, когда с детьми работали в школе, вы ходили с ними в ТЮЗ?
— Обязательно! Я ходила с ними, еще когда театр не здесь был, а был, где теперь Учебный театр (на ул. Карла Либкнехта, 48, в современное здание театр переехал в 1977 году – прим. ред.). Я с ними ходила, и я знала очень многих артистов, мы ходили на спектакли, обсуждали с ребятами.
— Какой спектакль или актер особо вас впечатлил как зрителя еще до того, как вы стали директором театра?
— Серьезное было впечатление от актерских работ Любы Ворожцовой в спектакле. Помню роли Лени Балуева, которого уже нет, Володю Иванского молодого хорошо помню.
Когда я пришла в театр в качестве директора, надо было знакомиться с каждым индивидуально. Я беседовала с каждым артистом, с каждым руководителем цехов. Актеры — они же честные, они очень правильные, они очень требовательные и они говорят все, что думают. Володя Сизов, как теперь помню, сказал: «Вы зачем сюда пришли? Вы что из себя представляете? Вы не понимаете, что вам не заменить Михаила Вячеславовича, вам не сделать, что он с нами сделал! Мы с ним выезжали на Дальний Восток, мы с ним получали премии Ленинского комсомола».
На тот момент, когда я пришла, были очень серьезные проблемы. И Сафронов ушел, и главного режиссера не было. А главный режиссер очень нужен. Он просто как воздух нужен театру! Потому что это человек, к которому идут артисты: это их папа. Актеры должны быть под очень хорошим творческим крылом. Поэтому время было очень тяжелое для меня, но оно было как-то при этом очень хорошее.
Я с разными режиссерами много работала, и у нас были потрясающие отношения, потому что я понимала, что директора, чиновника можно найти быстро, а творческого человека, режиссера, очень тяжело, чтобы он был в театре. Ну, вы сами, наверное, это понимаете, поскольку имеете тоже отношение к этим вещам.
И так случилось, что к нам Дима Астрахан приехал работать (Дмитрий Хананович Астрахан работал режиссером в Свердловском театре юного зрителя с 1981 по 1987 год — прим. ред.). Помню, мы поехали с Димой на гастроли в Ригу. Сегодня легче назвать страны, в которых мы не были на гастролях. Мы очень много объездили за мое время, мы первые начали большие гастроли по всей России, потом по бывшим республикам Советского Союза, а потом по загранице очень много ездили со спектаклями.
Дима Астрахан — удивительный парень, у него такая семья потрясающая, мама приезжала, много братьев и мама очень переживала, что Дима выбрал тяжелейшую профессию режиссера. И когда мы были в Риге, помню, как за ним бегали девчоночки молодые, как мы ходили в магазин, как покупали что-то Диме с первых зарплат, как это все было удивительно, как это все было здорово, понимаете? Как это все было хорошо по-человечески. А Толя Праудин? (Анатолий Аркадьевич Праудин работал в ТЮЗе с 1986 по 1997 год, сегодня живет и работает в Санкт-Петербурге, но театр продолжает сотрудничество с режиссером — прим. ред.)
Когда я пришла в театр в качестве директора, надо было знакомиться с каждым индивидуально. Я беседовала с каждым артистом, с каждым руководителем цехов. Актеры — они же честные, они очень правильные, они очень требовательные и они говорят все, что думают. Володя Сизов, как теперь помню, сказал: «Вы зачем сюда пришли? Вы что из себя представляете? Вы не понимаете, что вам не заменить Михаила Вячеславовича, вам не сделать, что он с нами сделал! Мы с ним выезжали на Дальний Восток, мы с ним получали премии Ленинского комсомола».
На тот момент, когда я пришла, были очень серьезные проблемы. И Сафронов ушел, и главного режиссера не было. А главный режиссер очень нужен. Он просто как воздух нужен театру! Потому что это человек, к которому идут артисты: это их папа. Актеры должны быть под очень хорошим творческим крылом. Поэтому время было очень тяжелое для меня, но оно было как-то при этом очень хорошее.
Я с разными режиссерами много работала, и у нас были потрясающие отношения, потому что я понимала, что директора, чиновника можно найти быстро, а творческого человека, режиссера, очень тяжело, чтобы он был в театре. Ну, вы сами, наверное, это понимаете, поскольку имеете тоже отношение к этим вещам.
И так случилось, что к нам Дима Астрахан приехал работать (Дмитрий Хананович Астрахан работал режиссером в Свердловском театре юного зрителя с 1981 по 1987 год — прим. ред.). Помню, мы поехали с Димой на гастроли в Ригу. Сегодня легче назвать страны, в которых мы не были на гастролях. Мы очень много объездили за мое время, мы первые начали большие гастроли по всей России, потом по бывшим республикам Советского Союза, а потом по загранице очень много ездили со спектаклями.
Дима Астрахан — удивительный парень, у него такая семья потрясающая, мама приезжала, много братьев и мама очень переживала, что Дима выбрал тяжелейшую профессию режиссера. И когда мы были в Риге, помню, как за ним бегали девчоночки молодые, как мы ходили в магазин, как покупали что-то Диме с первых зарплат, как это все было удивительно, как это все было здорово, понимаете? Как это все было хорошо по-человечески. А Толя Праудин? (Анатолий Аркадьевич Праудин работал в ТЮЗе с 1986 по 1997 год, сегодня живет и работает в Санкт-Петербурге, но театр продолжает сотрудничество с режиссером — прим. ред.)
— Вот благодаря Анатолию Праудину и спектаклю «Человек рассеянный» я и влюбилась в театр.
— А Толя Праудин! Вы не смотрели последний его спектакль? (спектакль «Герой нашего времени», премьера состоялась 20 марта 2025 года — прим. ред.) Ну очень хвалят, у меня друзья сходили. Сама не была, обязательно схожу, потому что отзывы очень хорошие. Думаю, на «Реальном театре» показывать будут. С Олегом (Олег Семенович Лоевский, художественный руководитель всероссийского фестиваля «Реальный театр» — прим. ред.) еще по формированию репертуара «Реального театра» не разговаривала. У нас есть одна задумка очень хорошая, потому что юбилейный фестиваль в этом году будет. У нас есть свои традиции, которые мы решили возобновить. Я надеваю белую шляпку, а у Олега хромовые сапоги.

Во время гастролей во Франции со спектаклем «Человек рассеянный» (реж. Анатолий Паудин). Начало 2000-х гг.
— Да, я знаю. Мы тоже как-то делали с Открытым студенческим театром перформанс перед ТЮЗом на фестивале «Реальный театр», на котором продавали сапог Олега Семеновича. Олег Семенович уже работал в театре, когда вы пришли директором?
— Да, Олег был завлитом, а потом я его сделала заместителем директора по творческим вопросам Он мне очень помогал с артистами. Артисты считают, что кроме них никто лучше не может играть в этом театре, и правильно считают. Нам с Олегом приходилось вместе разрешать непростые ситуации, которые возникали в труппе.
Когда пришел Слава Кокорин с тяжелейшим характером (Вячеслав Всеволодович Кокорин был художественным руководителем театра с 2001 по 2006 год — прим. ред.). Но с каким отношением мы с ним работали, и как Кокорина любили артисты, и как он умел быть готовым к каждому спектаклю, и как он умел убедить каждого из них в своей правоте. Поэтому ему все прощалось. На спектакли Кокорина мы ездили с Сафроновым в Киев, отсматривали его спектакли, прежде чем пригласить его в театр главным режиссером. Михаил Вячеславович тогда был уже начальником управления культуры области. Когда Кокорин приехал в Екатеринбург, сняли ему квартиру трехкомнатную. Оплату за квартиру согласовывала с главой города Аркадием Чернецким. Я не знаю, чем и как я его убедила. Аркадий Михайлович удивительно относился к театру. Спасибо ему за это!
Ещё я организовала первые после развала Советского Союза гастроли в Белоруссию в 2000 году. Созвонилась с Министерством культуры, взяла нашего председателя Национально-культурной автономии белорусов Урала, в то время ректора Лесотехнического университета Василия Андреевича Азаренка, и поехали мы в Минск организовывать гастроли театра. Театр привез в Минск пять спектаклей. Сначала было как-то ревностно, потому что времена-то были другие, боялись проблем со сбором зрителей. Но все было хорошо. А потом их театр приехал к нам. Самое главное, что запомнилось зрителям: они притащили с собой три мешка бульбы, и мы эту картошку всю чистили, драники сделали. И на заключительном мероприятии, Люба Ворожцова с их заслуженной артисткой вели это мероприятие, мы кормили весь зал драниками.
Очень хорошо, что Сергей Владимирович (Радченко Сергей Владимирович, директор ТЮЗа с 2024 года — прим. ред.) все это возобновил, и снова белорусы к нам приезжают (гастроли Белорусского ТЮЗа в честь 95-летия театра состоялись в апреле 2025 года — прим. ред.). И трое человек были из той труппы, что приезжала к нам более 20 лет назад. И с таким удовольствием посмотрели их сегодняшние спектакли. Пушкин «Евгений Онегин». Я во время спектакля все смотрела, оглядывалась, зал был наполнен молодежью студенческой и старшеклассниками. И тишина была в зале, играли на русском языке, и белорусы так бережно сохранили качество пушкинского русского языка, что сегодня уже забывается, что сегодня в небытие отправляется. И я сидела и плакала от всех своих мыслей.
Я и в настоящее время работаю заместителем председателя Национально-культурной автономии белорусов Урала. В этом году 80 лет освобождения Беларуси от немцев. И нас 16 человек белорусов, и тех, кто очень помогает белорусам, Лукашенко наградил медалью «80 лет Победы».
А еще я много занималась тем, чтобы на улице Ильича появилась памятная доска на доме № 16, где родился и рос Мулявин (Владимир Георгиевич Мулявин, советский и российский белорусский музыкант и певец, родился в 1941 году в Свердловске, в Белоруссию переехал в 1963 году, художественный руководитель ВИА «Песняры» — прим. ред.). Когда мы были на гастролях в Минске в 2000 году, я с Министерством культуры Минска договорились, и их архитектор сделал памятную доску с барельефом, чтобы обозначить, что здесь рос наш совместный герой белорусский и советский музыкант Владимир Мулявин. Мы загрузили барельеф в машину, где были театральные декорации: три больших фуры были у нас с декорациями пяти спектаклей. И привозим в Екатеринбург вместе с декорациями, минуя формальности на границе. Доску мы установили.
Когда пришел Слава Кокорин с тяжелейшим характером (Вячеслав Всеволодович Кокорин был художественным руководителем театра с 2001 по 2006 год — прим. ред.). Но с каким отношением мы с ним работали, и как Кокорина любили артисты, и как он умел быть готовым к каждому спектаклю, и как он умел убедить каждого из них в своей правоте. Поэтому ему все прощалось. На спектакли Кокорина мы ездили с Сафроновым в Киев, отсматривали его спектакли, прежде чем пригласить его в театр главным режиссером. Михаил Вячеславович тогда был уже начальником управления культуры области. Когда Кокорин приехал в Екатеринбург, сняли ему квартиру трехкомнатную. Оплату за квартиру согласовывала с главой города Аркадием Чернецким. Я не знаю, чем и как я его убедила. Аркадий Михайлович удивительно относился к театру. Спасибо ему за это!
Ещё я организовала первые после развала Советского Союза гастроли в Белоруссию в 2000 году. Созвонилась с Министерством культуры, взяла нашего председателя Национально-культурной автономии белорусов Урала, в то время ректора Лесотехнического университета Василия Андреевича Азаренка, и поехали мы в Минск организовывать гастроли театра. Театр привез в Минск пять спектаклей. Сначала было как-то ревностно, потому что времена-то были другие, боялись проблем со сбором зрителей. Но все было хорошо. А потом их театр приехал к нам. Самое главное, что запомнилось зрителям: они притащили с собой три мешка бульбы, и мы эту картошку всю чистили, драники сделали. И на заключительном мероприятии, Люба Ворожцова с их заслуженной артисткой вели это мероприятие, мы кормили весь зал драниками.
Очень хорошо, что Сергей Владимирович (Радченко Сергей Владимирович, директор ТЮЗа с 2024 года — прим. ред.) все это возобновил, и снова белорусы к нам приезжают (гастроли Белорусского ТЮЗа в честь 95-летия театра состоялись в апреле 2025 года — прим. ред.). И трое человек были из той труппы, что приезжала к нам более 20 лет назад. И с таким удовольствием посмотрели их сегодняшние спектакли. Пушкин «Евгений Онегин». Я во время спектакля все смотрела, оглядывалась, зал был наполнен молодежью студенческой и старшеклассниками. И тишина была в зале, играли на русском языке, и белорусы так бережно сохранили качество пушкинского русского языка, что сегодня уже забывается, что сегодня в небытие отправляется. И я сидела и плакала от всех своих мыслей.
Я и в настоящее время работаю заместителем председателя Национально-культурной автономии белорусов Урала. В этом году 80 лет освобождения Беларуси от немцев. И нас 16 человек белорусов, и тех, кто очень помогает белорусам, Лукашенко наградил медалью «80 лет Победы».
А еще я много занималась тем, чтобы на улице Ильича появилась памятная доска на доме № 16, где родился и рос Мулявин (Владимир Георгиевич Мулявин, советский и российский белорусский музыкант и певец, родился в 1941 году в Свердловске, в Белоруссию переехал в 1963 году, художественный руководитель ВИА «Песняры» — прим. ред.). Когда мы были на гастролях в Минске в 2000 году, я с Министерством культуры Минска договорились, и их архитектор сделал памятную доску с барельефом, чтобы обозначить, что здесь рос наш совместный герой белорусский и советский музыкант Владимир Мулявин. Мы загрузили барельеф в машину, где были театральные декорации: три больших фуры были у нас с декорациями пяти спектаклей. И привозим в Екатеринбург вместе с декорациями, минуя формальности на границе. Доску мы установили.
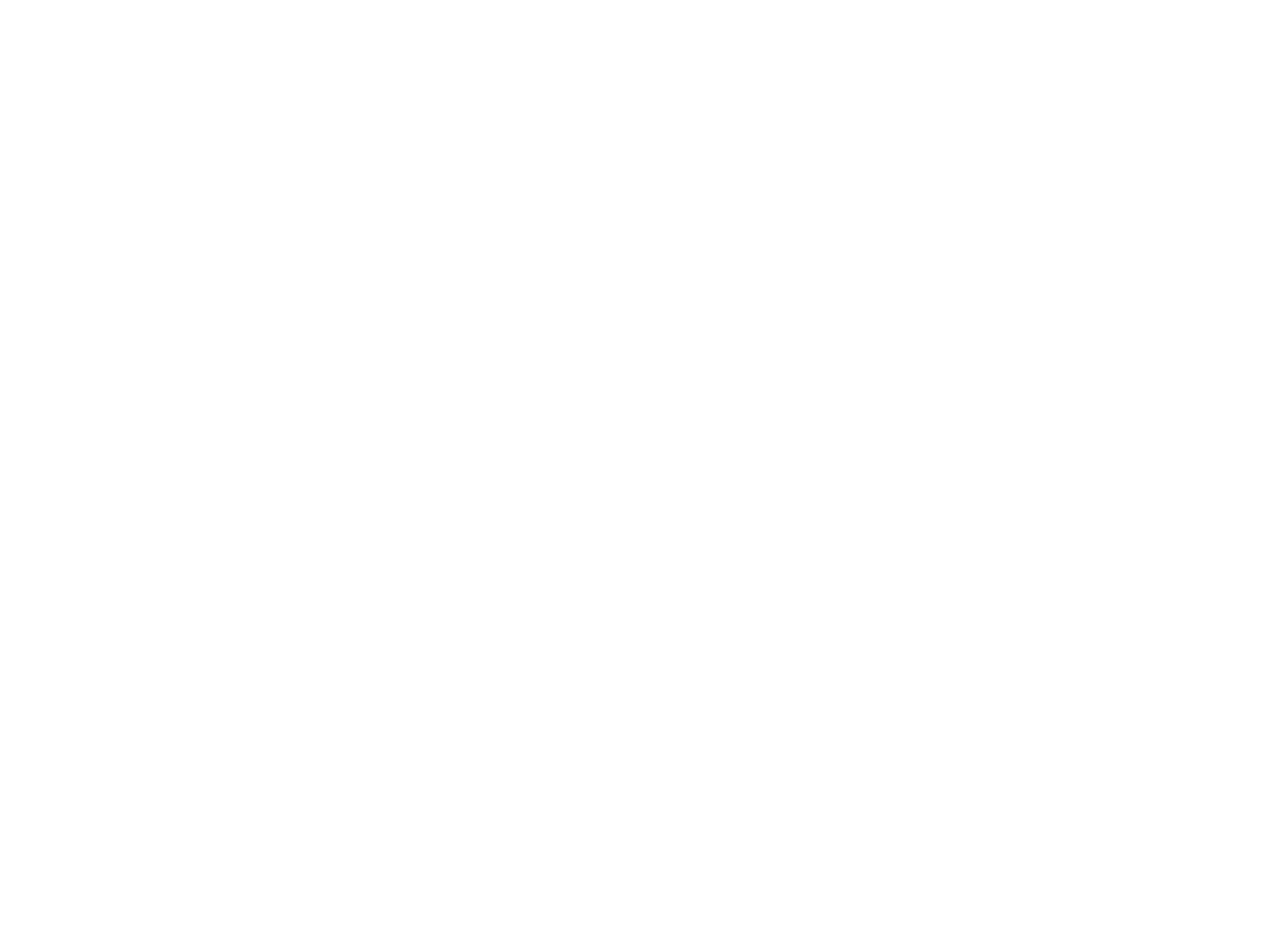
Открытие мемориальной доски на доме, где жил Владимир
Мулявин. 2006 г.
Мулявин. 2006 г.
Тогда еще была жива женщина-соседка, которая хорошо знала семью Мулявина. Потом пригласили Борткевича (Леонид Леонидович Борткевич, солист ВИА «Песняры» — прим. ред.). Я хотела, чтобы Борткевич выступил на концерте в День учителя в театре. Но платить ему было нечем. Я собрала ребят и Леонида, посадила на свою старенькую машину, взяла с собой что надо (закусочки, коньячку немножко), довезла их до дома, где восстановлен барельеф Мулявина, познакомила с этой женщиной, которая там еще жила. Леонид разревелся, растрогался и согласился бесплатно спеть на концерте. Вот такая красивая история получилась. Я иногда бываю у этого дома, и всегда на барельефе живые цветы лежат.
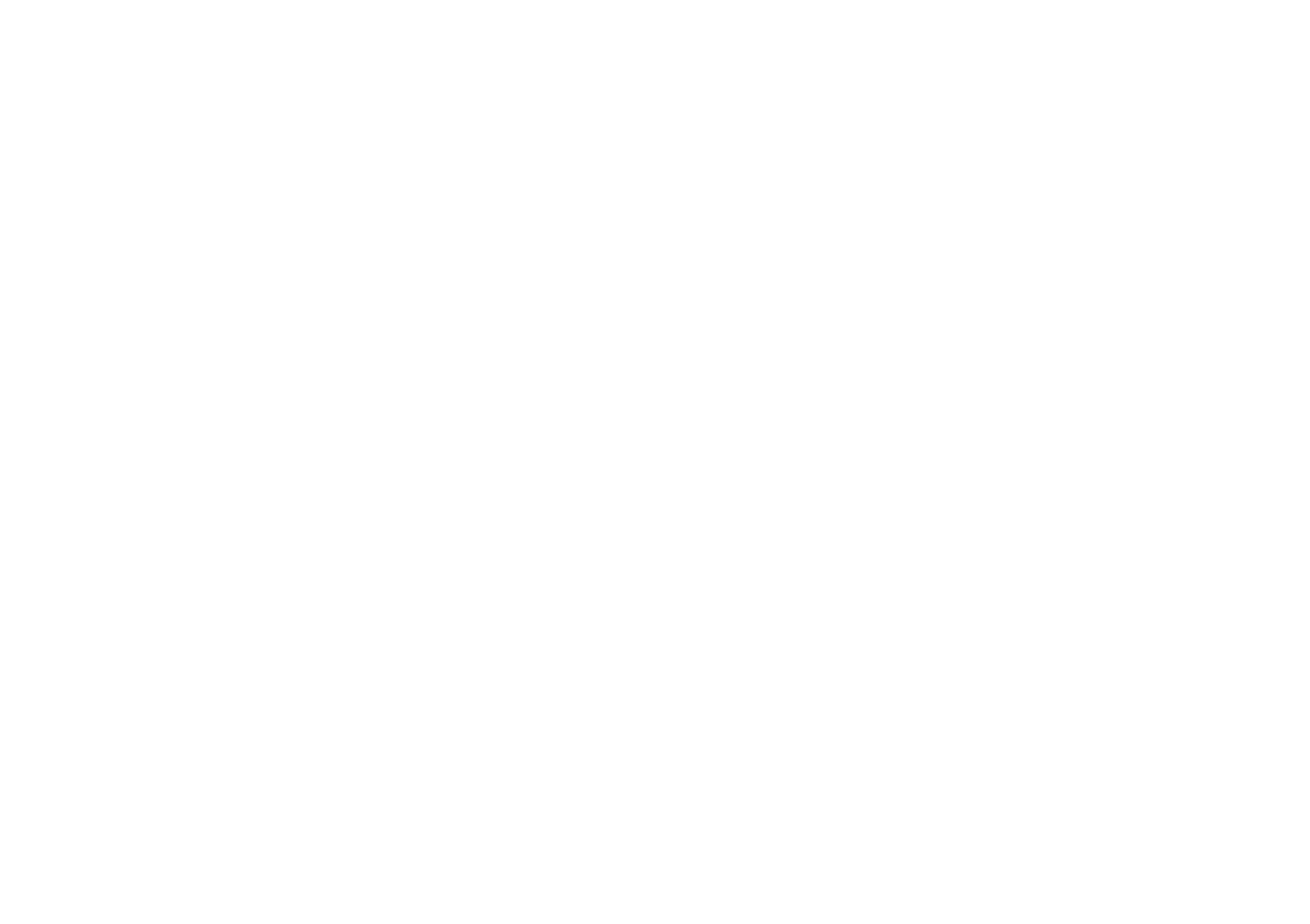
С Леонидом Борткевичем, солистом ВИА «Песняры». 2007 г.
— Я помню, когда с 1993 года стала ходить на спектакли в ТЮЗ, что в большом зрительном зале было иногда тяжеловато. Я студенткой была влюблена в спектакли театра, но школьники, которые приходили классами, вели себя безобразно, чем убивали спектакли.
— Ой, как было тяжело с залом работать! А как много было здесь у нас педсоветов, как много мы приглашали педагогов, как много мы разговаривали со всеми! А теперь иначе. Вот походите, посмотрите. Хорошая у нас молодежь растет! Очень хорошая! Совершенно другие по своей интеллигентности ребята, другие у них потребности. Более культурные.
У нас, когда я была директором театра, вышли две потрясающих огромных книги. «С детства и на всю жизнь» Юрия Жигульского (Юрий Жигульский, театральный режиссер и театральный педагог, работал главным режиссером ТЮЗа в 1964–1976 и в 1995–1999 годах — прим. ред.). Книга говорит об отдельных эпизодах режиссерских в истории театра, и вышла она в 2005 году.
А затем Алла Викторовна Рябухо написала книгу «И к сцене вечная любовь». И там у нас, начиная с 1930 года, более ста фамилий актерских вписаны. Мы к 80-летию театра выпустили эту книгу.
Сложно было найти средства на выпуск книги. Но к нам приехал меценат и сказал: «Я хочу помочь как-то театру. Что вам, Янина Ивановна, нужно?» Я говорю: «Есть три момента: надо заменить паркетный пол — это раз. Второе — можно дать премию театру в связи с юбилеем. И третье — издать книгу про театр». Меценат день подумал и сказал: «Мы возьмем на себя книгу». И эта книга появилась в 2010 году благодаря этому меценату. Потрясающая книга! Я думаю, что она предпоследняя или последняя в этом театре. Больше никому ничего не удается сделать. Хотя, может, сама возьмусь и что-нибудь к 100-летию театра придумаю.
У нас, когда я была директором театра, вышли две потрясающих огромных книги. «С детства и на всю жизнь» Юрия Жигульского (Юрий Жигульский, театральный режиссер и театральный педагог, работал главным режиссером ТЮЗа в 1964–1976 и в 1995–1999 годах — прим. ред.). Книга говорит об отдельных эпизодах режиссерских в истории театра, и вышла она в 2005 году.
А затем Алла Викторовна Рябухо написала книгу «И к сцене вечная любовь». И там у нас, начиная с 1930 года, более ста фамилий актерских вписаны. Мы к 80-летию театра выпустили эту книгу.
Сложно было найти средства на выпуск книги. Но к нам приехал меценат и сказал: «Я хочу помочь как-то театру. Что вам, Янина Ивановна, нужно?» Я говорю: «Есть три момента: надо заменить паркетный пол — это раз. Второе — можно дать премию театру в связи с юбилеем. И третье — издать книгу про театр». Меценат день подумал и сказал: «Мы возьмем на себя книгу». И эта книга появилась в 2010 году благодаря этому меценату. Потрясающая книга! Я думаю, что она предпоследняя или последняя в этом театре. Больше никому ничего не удается сделать. Хотя, может, сама возьмусь и что-нибудь к 100-летию театра придумаю.
— Расскажите, пожалуйста, о том, как театр получил «Золотую маску».
— Вы знаете, что мы с Олегом прежде «Золотой маски» начали делать свой региональный фестиваль? То есть первым фестивалем именно был «Реальный театр», а уж потом возникла «Золотая маска» (фестиваль «Реальный театр» впервые состоялся в 1990 году, фестиваль «Золотая маска» учрежден СТД РФ в 1993 году — прим. ред.).
И так пошло-поехало: реальный театр, реальный театр, реальный театр и до сих пор. У Олега самая главная задача сегодня — показать лучшие театры, и это необязательно детские театры, но и спектакли для молодежи, взрослых. Такое веянье пошло еще с 2000 года, когда пришел главрежем Вячеслав Кокорин. Да и для Толи Праудина важнее было все-таки взрослые спектакли.
Я не знаю, чем мне удалось убедить Олега и половину труппы актеров, которые любили и любят играть только в вечерних спектаклях для взрослого зрителя. У меня одно было в аргументах: ребята, детский театр, Театр юного зрителя, в области один: его никогда не закроют. А тогда закрывали театры. И мы оставили название Театр юного зрителя, девизом нашего театра стали слова «С детства и на всю жизнь». Так и книгу про театр Юрий Жигульский назвал. У нас это было написано на здании, когда входили в театр, и этот девиз закрепился надолго. Он до сих пор так и существует. По моему, Наташа Киселева этот девиз предложила, и спасибо Наташе за это.
(Комментарий от Натальи Киселевой: «Нет, я продвинула этот девиз. Его придумал Кокорин, когда театр отмечал 75-летие. Мы думали про юбилейный слоган, придумывали разные варианты, и вот в диалоге Вячеслав его предложил»).
И так пошло-поехало: реальный театр, реальный театр, реальный театр и до сих пор. У Олега самая главная задача сегодня — показать лучшие театры, и это необязательно детские театры, но и спектакли для молодежи, взрослых. Такое веянье пошло еще с 2000 года, когда пришел главрежем Вячеслав Кокорин. Да и для Толи Праудина важнее было все-таки взрослые спектакли.
Я не знаю, чем мне удалось убедить Олега и половину труппы актеров, которые любили и любят играть только в вечерних спектаклях для взрослого зрителя. У меня одно было в аргументах: ребята, детский театр, Театр юного зрителя, в области один: его никогда не закроют. А тогда закрывали театры. И мы оставили название Театр юного зрителя, девизом нашего театра стали слова «С детства и на всю жизнь». Так и книгу про театр Юрий Жигульский назвал. У нас это было написано на здании, когда входили в театр, и этот девиз закрепился надолго. Он до сих пор так и существует. По моему, Наташа Киселева этот девиз предложила, и спасибо Наташе за это.
(Комментарий от Натальи Киселевой: «Нет, я продвинула этот девиз. Его придумал Кокорин, когда театр отмечал 75-летие. Мы думали про юбилейный слоган, придумывали разные варианты, и вот в диалоге Вячеслав его предложил»).
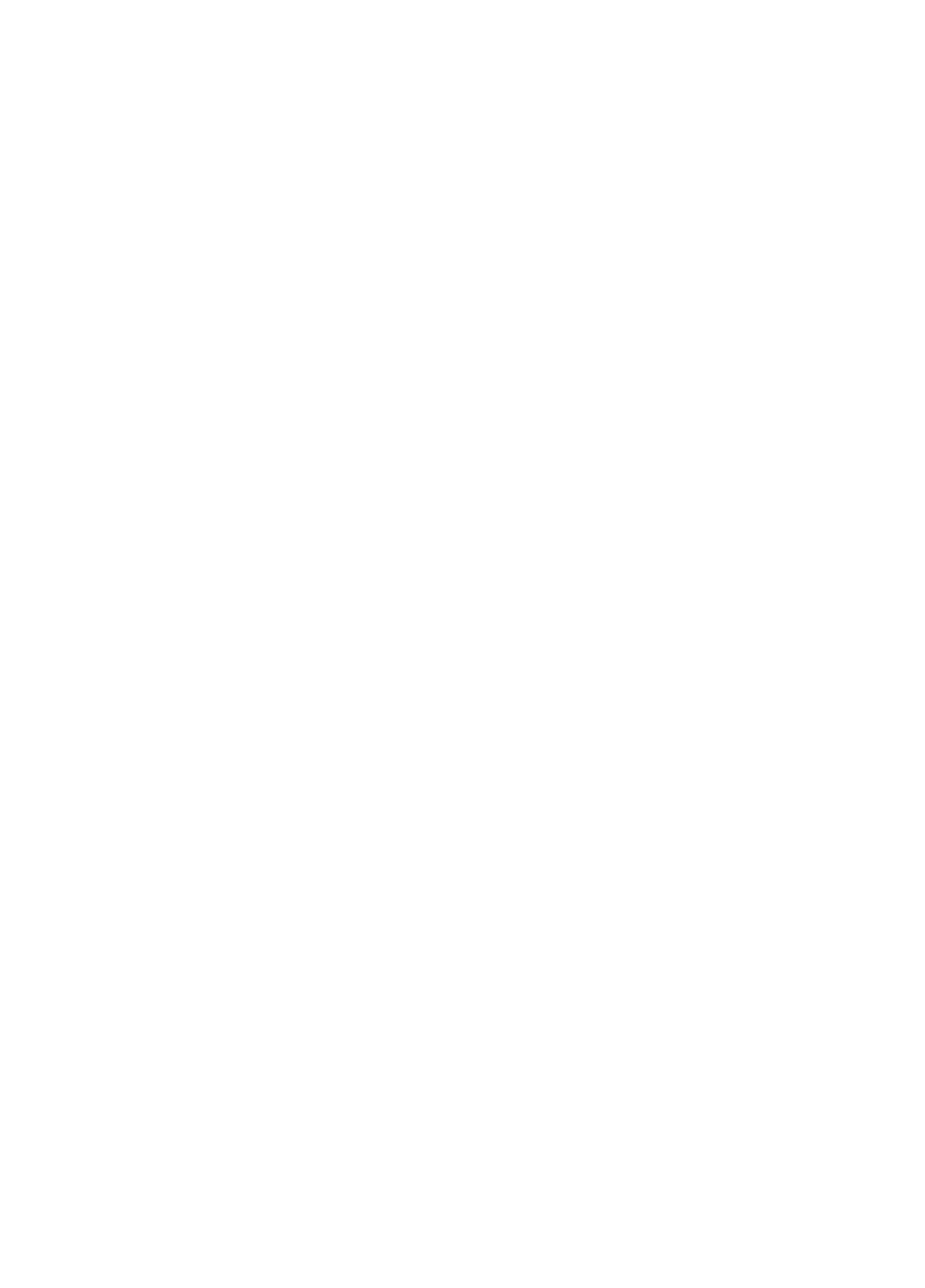
С наградой Золотая маска за спектакль «Каштанка» (реж.
Вячеслав Кокорин). 2003 г.
Вячеслав Кокорин). 2003 г.
— Давайте вернемся к премии «Золотая маска». Это ведь очень престижная награда. За какой спектакль наградили театр?
— Да, «Золотая маска» — это был своего рода ориентир. Мы вывезли на фестиваль «Золотая маска» спектакль Кокорина «Каштанка». Мы не думали, что получим награду, потому что было много проблем, много проблем у Кокорина личных было, много проблем было у артистов. Я не могла тогда поехать на фестиваль, потому что должна была здесь каким-то образом что-то где-то все брать, искать финансирование. В театре было сложно: надо платить за то, платить за это, платить за другое, платить за десятое, квартиры приобретать. В Санкт-Петербурге артисты на «Золотой маске» выступили неважно, не будем об этом говорить. А в Москве они сыграли «Каштанку», говорят, просто потрясающе. Я приезжаю в Москву, забираю спектакли «Чайка» и «Каштанка», и мы выезжаем на гастроли в Подмосковье (на самом деле, театр поехал на Всероссийский фестиваль «ПоМост» в Новокуйбышевске (Самарская область) — прим. ред.), и туда нам звонит Миша Сафронов и говорит: «Театру дали «Золотую маску» за «Каштанку». И мы настолько обрадовались! Я собрала вечером коллектив, накрыла стол, мы поговорили: тогда непростая ситуация в коллективе в отношениях была.
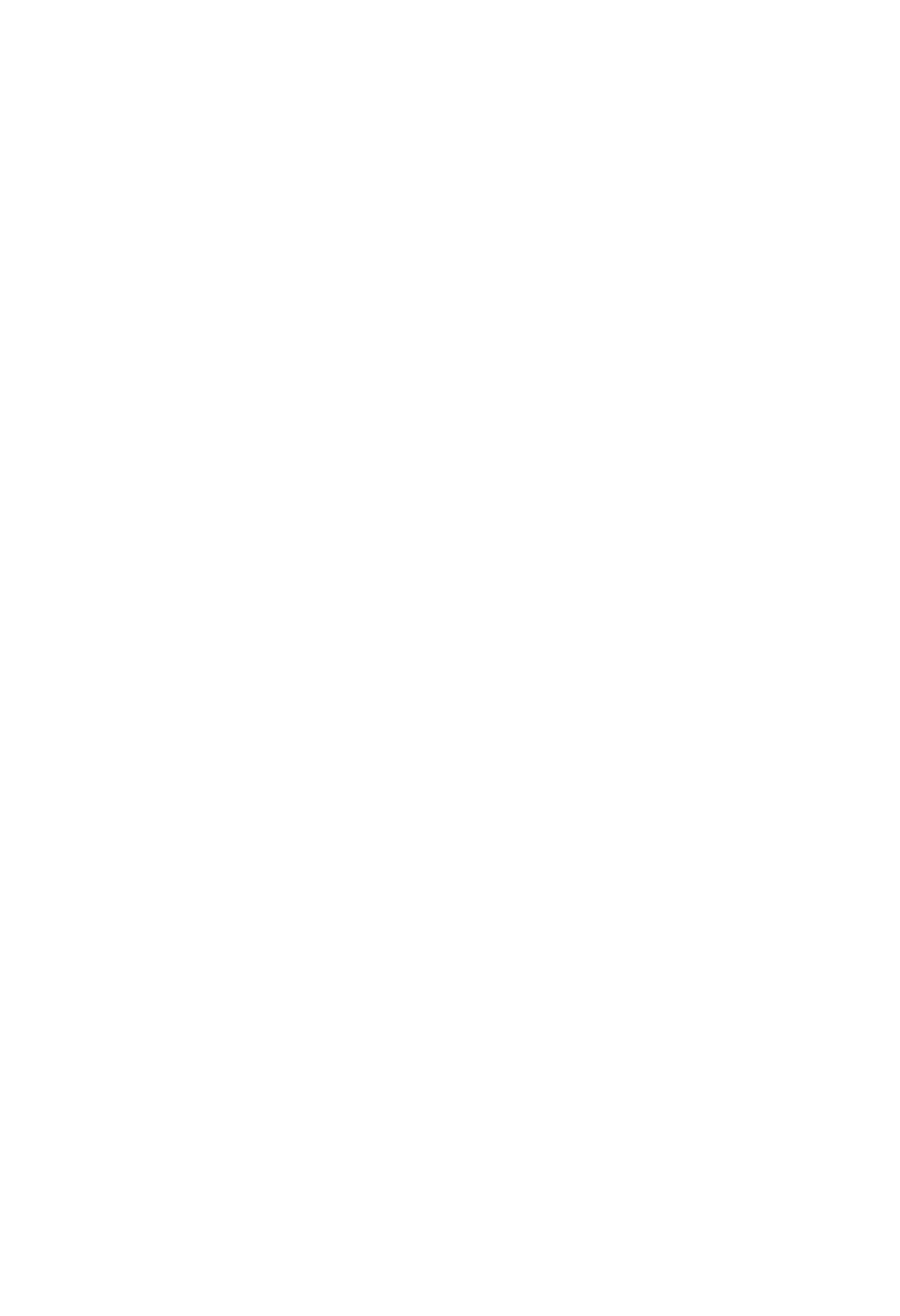
Со спектаклем «Каштанка» (реж. Вячеслав Кокорин в Эдинбурге, на Международном фестивале. 2005 г.
— Когда дали награду, сразу интерес возник к спектаклю?
— Да, Аркадий Чернецкий приходил на спектакль в наш малый зал смотреть. И до сих пор спектакль имеет успех у зрителей.
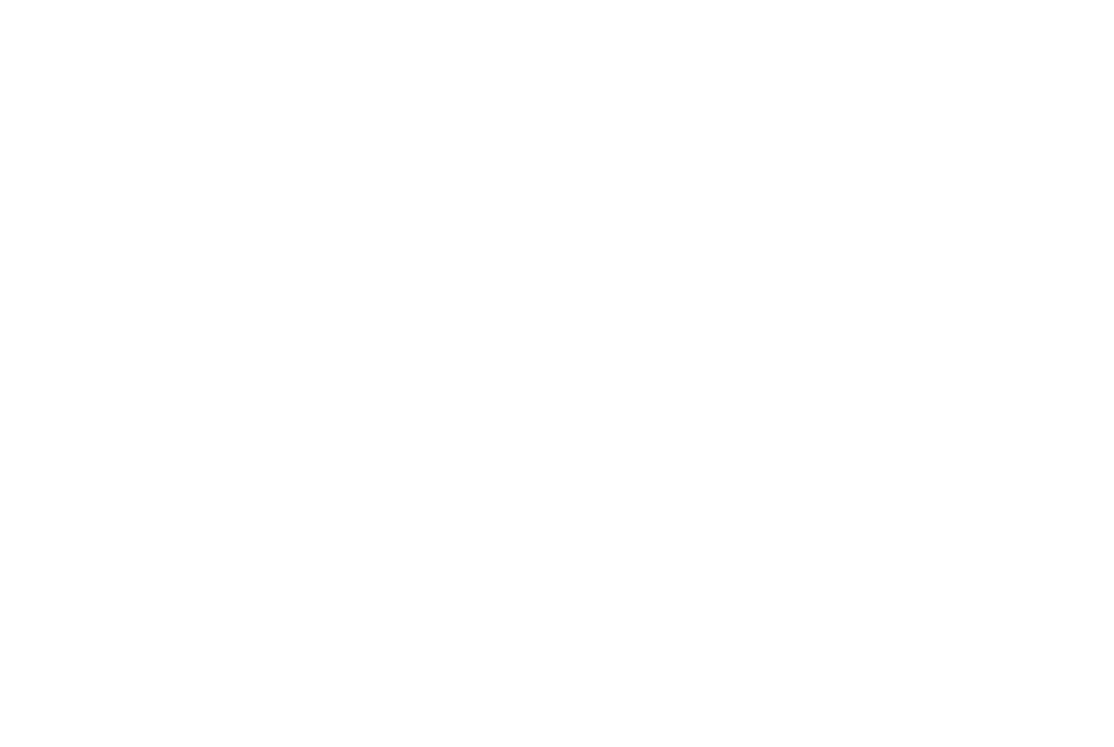
Светлана Учайкина, Аркадий Чернецкий, Янина Кадочникова
(слева направо). 2000-гг.
(слева направо). 2000-гг.
— Вы 26 лет буквально прожили в театре, что позволяло вам проделывать огромную работу, которую не все видели. А как же семья?
— Муж жил в садовом домике в Нижних Серьгах, и я приезжала к нему на выходные.
— И вам удалось сохранить отношения?
— Муж с пониманием ко всему относился. А вот теперь, когда я сентября прошлого года перестала работать в Областном совете ветеранов, а в Нижних Сергах мы домик продали, потому что тяжеловато работать, теперь я начинаю понимать, что такое муж, как себя вести, ценю наши отношения. Муж очень внимателен ко мне, потому что я немножечко разболелась, но поправляюсь. Он помогает. Очень много забот по дому взял на себя.
А про наш домик в Нижних Сергах весь театр знал. Когда начинался август, труппа выходила из отпуска, Янина Ивановна приглашает своего водителя, нагружает всем, что у нас там выросло, начиная с картошки и заканчивая огурцами и даже самодельным вином из черной смородины, и все это я привозила в театр. У нас накрывался внизу стол, и мы праздновали. Отдельно с артистами, потому что не все входили. Потом отдельно сотрудники цехов, потом отдельно мой любимый двор.
А про наш домик в Нижних Сергах весь театр знал. Когда начинался август, труппа выходила из отпуска, Янина Ивановна приглашает своего водителя, нагружает всем, что у нас там выросло, начиная с картошки и заканчивая огурцами и даже самодельным вином из черной смородины, и все это я привозила в театр. У нас накрывался внизу стол, и мы праздновали. Отдельно с артистами, потому что не все входили. Потом отдельно сотрудники цехов, потом отдельно мой любимый двор.
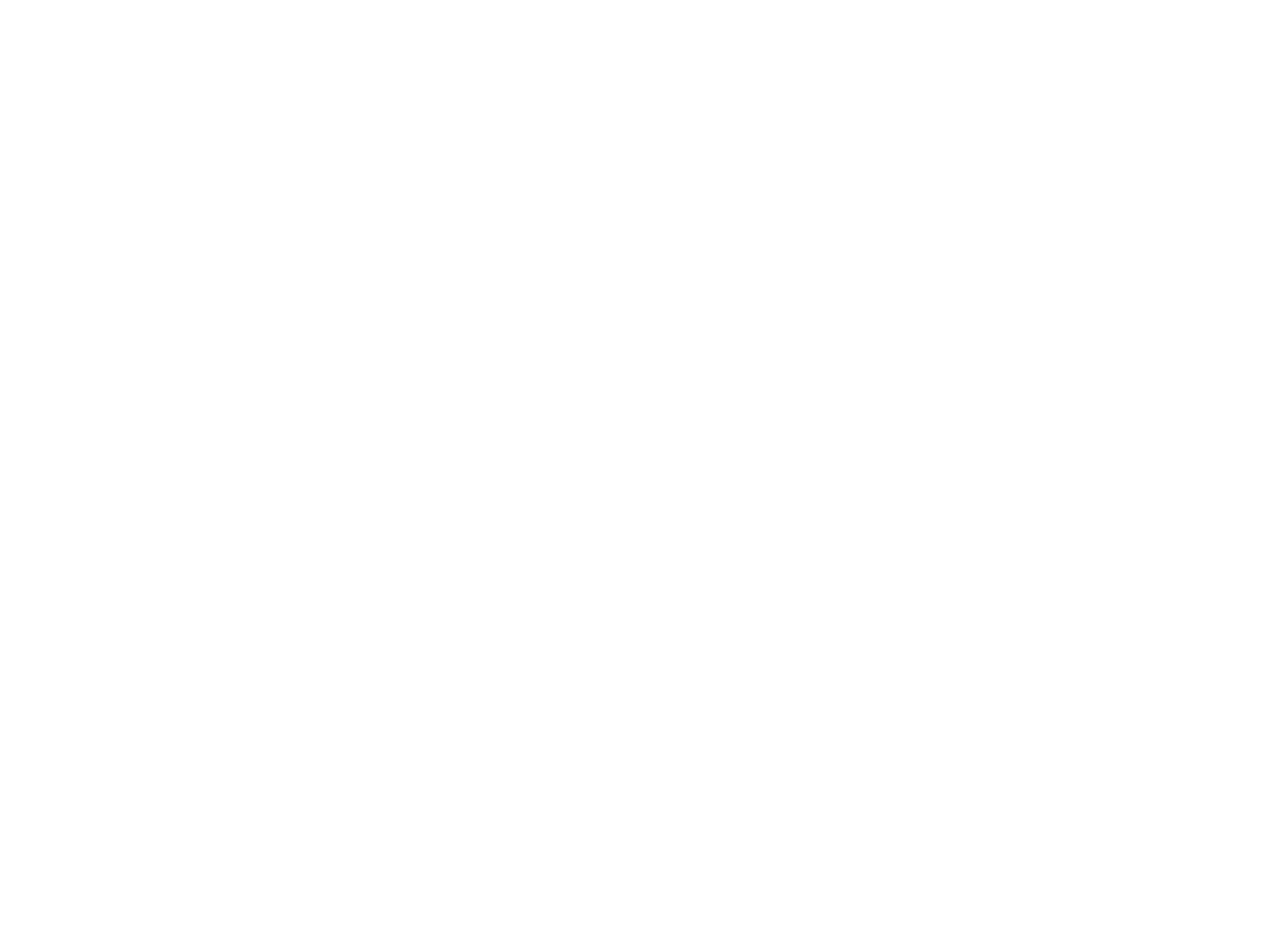
С урожаем для любимого театра. 2000-е гг.
— «Любимый двор» — это так замечательно звучит...
— Любимый двор, потому что в этом любимом дворе очень, казалось бы, незаметные, но очень важные для театра люди. Это водители, которые без режима работают, это слесари, дворники, электрики, охранники. Очень люблю и сотрудников цехов, которые изготовляют декорации, костюмы. В нашем театре это все было для меня важно — все, что касается спектакля, мы делали здесь своими руками, своими людьми, своими цехами.
— А вот текучка кадров в тех же цехах была? Или там тоже такие же как вы преданные театру люди работают, которые готовы всю жизнь театру посвятить?
— А вот не было у нас текучки кадров. Не было у меня никакой текучки кадров. Я старалась для сотрудников. Идут дети в школу в первый класс — я пыталась сделать какую-то материальную помощь. Каждый год, когда заканчивался театральный сезон, что бы ни было в театре, все получали приличную премию, благодаря которой можно было съездить отдохнуть. Люди за это очень держались. Все, кто стоял в очереди на получение жилья, все получили жилье.
— Когда стало легче после 1990-х? В 2000-е?
— А все время было легко. Просто было интересно, и все время стояли какие-то задачи, вопросы. Вот так, чтобы было тяжело, чтобы коллектив подводил, чтобы на меня кто-то где-то жаловался, никогда не было за ме время. Никогда. У нас были удивительные отношения.
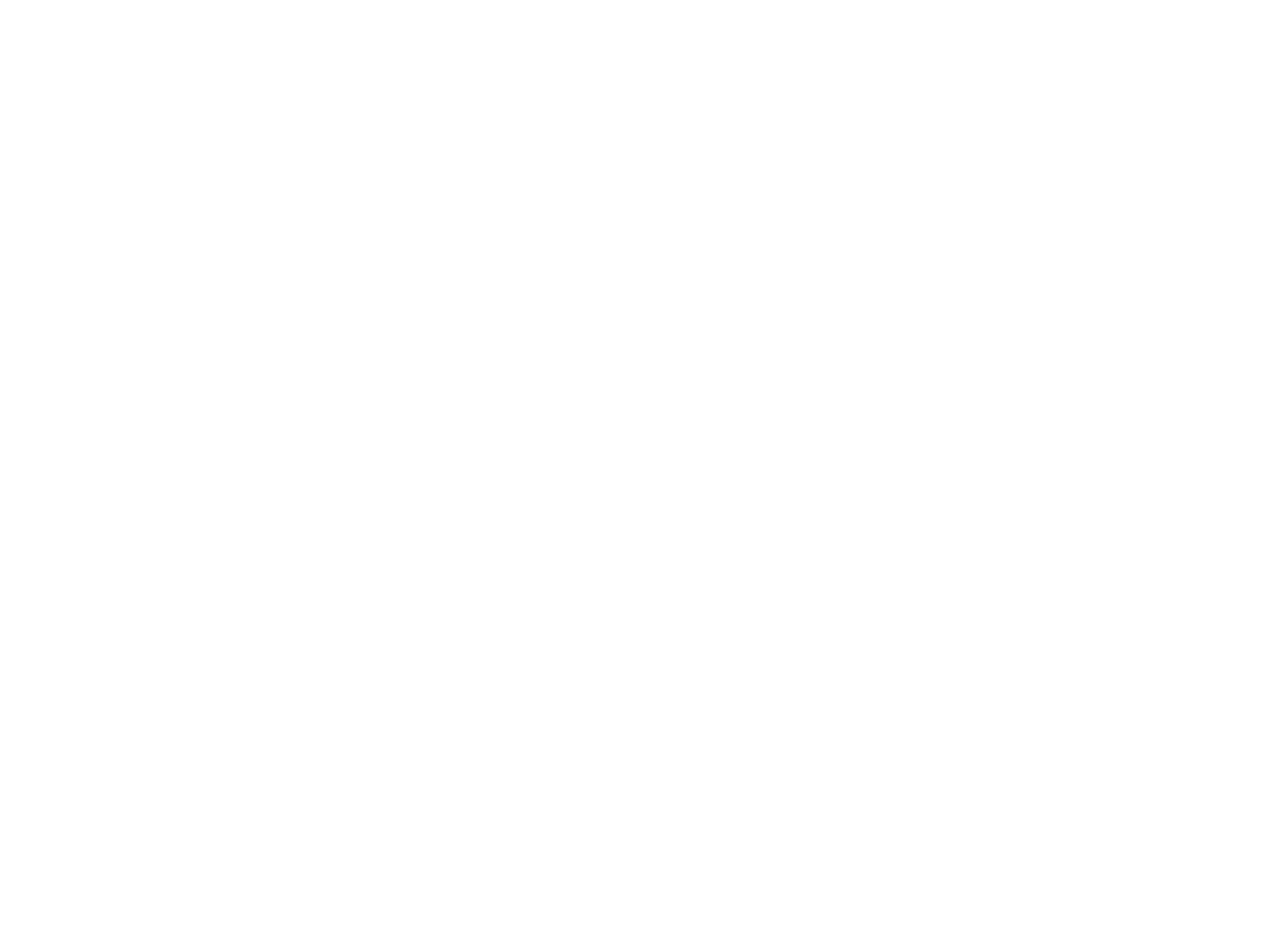
На фестиваль в Берлине со спектаклем «Дембельский поезд» (реж. Олег Гетце). 2004 г.
— Сейчас такое модное слово есть — выгорание, когда человек устает на работе.
— Не знаю я такого слова — выгорание. Я его слышала, но я его не понимаю. А разве бывает так, если работа любимая?
— Но были ведь и сложные ситуации? Когда главный режиссер уходил. Почему ушел Вячеслав Кокорин?
— Дело в том, что характер у него был очень сложный, и ему захотелось полностью сформировать свой творческий коллектив, свою труппу. А у нас была стабильная труппа, как это можно? Он предлагал, чтобы я человек 10–15 уволила, а он бы набрал студентов, которых он обучал и взял на их место. Я очень тогда переживала. Господи, сколько всего было! В общем, революцию в театре хотел устроить. Я собрала труппу, пригласила Кокорина, и мы, по-моему, часов до трех ночи все вместе обсуждали, разговаривали. И в конце я сказала: «Я уважительно к тебе, Слава, отношусь, я очень ценю твое творчество, я тебя люблю, как многие артисты, очень многие тебя любят за твое качество режиссерское, за твое умение, за то, что ты всегда готов, за то, что ты с ними умеешь работать, но твое предложение я не приму. Мы не примем». И он спокойно уехал в другой город работать.
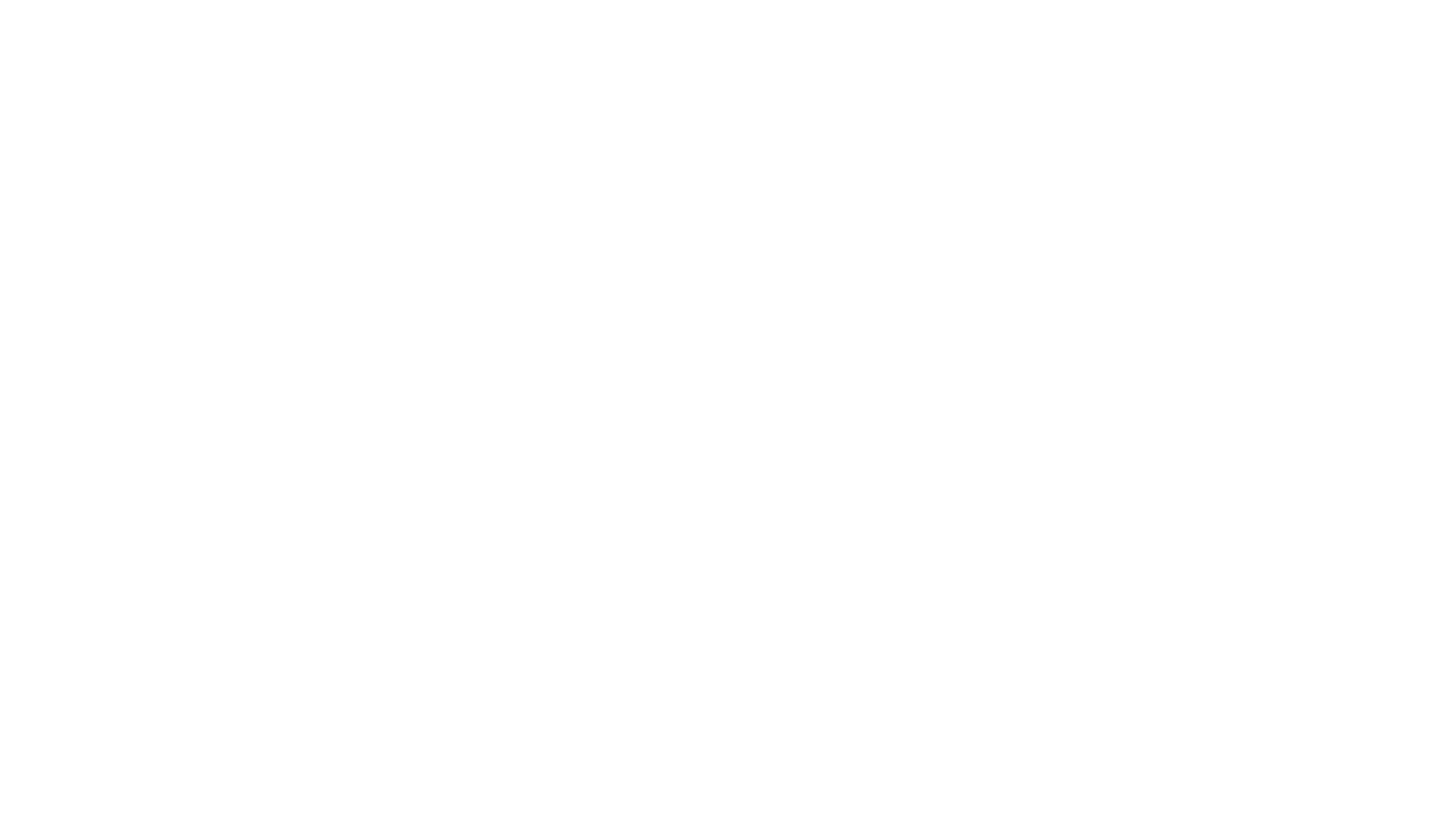
Прием мэра во время фестиваля «Реального театр». 2009 г.
— Анатолий Праудин уехал в Питер. Хотя в нашем ТЮЗе он ставил потрясающие спектакли.
— Толю пригласили главрежем в ТЮЗ Санкт-Петербурга, и он туда переехал со своей женой Наташей (Наталья Скороход, российский театровед, драматург, сценарист — прим. ред.). А я потом в Питер привезла на фестиваль Толин спектакль «Фифа с бантом», чтобы показать, что я не злюсь, что он уехал. И «Фифу с бантом» показали в Санкт-Петербургском театре юного зрителя. И я показала питерцам, на что способен Толя Праудин, какие он может ставить спектакли. Толя и сегодня продолжает ставить спектакли в нашем ТЮЗе, у него свой круг артистов.
— Сколько лет вы проработали в ТЮЗе?
— У меня в трудовой книжке такие записи: одна запись «Октябрьский район, 76-я школа», потом переведена в Дом пионеров, потом переведена заведующей отделом культуры Октябрьского района, потом переведена директором Театра юного зрителя. Это был 1984 год, сентябрь, как теперь помню 9 сентября, приказ по театру, и 1 июля 2010 года уже освобождена от должности директора в связи с окончанием контракта.

80-летие ТЮЗа. Янина Ивановна на сцене с Аркадием
Чернецким. 2010 г.
Чернецким. 2010 г.

80-летие ТЮЗа. 2010 г.
— Тяжело было уходить?
— Я понимала, что надо уже мне уходить, потому что есть сегодняшнее время, которое очень быстро шагает. Возврата к старому не может быть. Нельзя сегодня жить только тем, что было очень хорошо когда-то. А я всегда говорю: было другое время, были другие задачи и был другой человек. Я почувствовала, что стало другое мышление, другое отношение, другие люди, другая современность, уже другая совершенно молодежь, которая требует совершенно другого. И приняла такое решение: посоветовалась дома и приняла решение уходить. Мне не стали продлевать контракт.
Тяжело было уходить. Но меня сразу зацепил Юрий Дмитриевич Судаков и пригласил работать в Областной совет ветеранов. Это серьезная очень организация, она напрямую подчиняется губернатору. Я там проработала 13 лет заместителем Юрия Дмитриевича по патриотическому воспитанию. До сентября прошлого года работала, и ушла, потому что разболелась. Может быть, и не надо было уходить, но уже дома пора побыть. Наступило время, когда ты должен понимать и заботиться о себе и о том, с кем тебе остается по жизни дальше идти. Потому что семья — это есть семья, понимаете? Здоровье свое — это есть здоровье. Или болеть, или не болеть. Я так считаю. Я когда работала, ни на каких больничных никогда не была. Поэтому сегодня для меня время, когда должно оценить свои возможности. Тогда не будет больно за ушедшее прошлое.
Тяжело было уходить. Но меня сразу зацепил Юрий Дмитриевич Судаков и пригласил работать в Областной совет ветеранов. Это серьезная очень организация, она напрямую подчиняется губернатору. Я там проработала 13 лет заместителем Юрия Дмитриевича по патриотическому воспитанию. До сентября прошлого года работала, и ушла, потому что разболелась. Может быть, и не надо было уходить, но уже дома пора побыть. Наступило время, когда ты должен понимать и заботиться о себе и о том, с кем тебе остается по жизни дальше идти. Потому что семья — это есть семья, понимаете? Здоровье свое — это есть здоровье. Или болеть, или не болеть. Я так считаю. Я когда работала, ни на каких больничных никогда не была. Поэтому сегодня для меня время, когда должно оценить свои возможности. Тогда не будет больно за ушедшее прошлое.
— Расскажите о своей работе в Областном совете ветеранов.
— Я проводила очень много мероприятий со студентами. Мы заключали договоры о совместной деятельности со всеми высшими учебными заведениями. Книгу выпустили в Совете ветеранов, в которой опубликовали работы студентов, их сочинения на тему «Кто для меня в жизни пример». Были потрясающие работы. За лучшие работы мы вручали награды в Доме актера. И меня удивило, как девочка, которая получила грамоту от Областного совета ветеранов, тут же позвонила маме рассказать. То есть ей было важно получить эту грамоту.
Очень аккуратно надо заниматься воспитанием патриотизма. Неназойливо.
Очень аккуратно надо заниматься воспитанием патриотизма. Неназойливо.
— Это важные слова про неназойливый патриотизм, потому что так важно проявлять чуткость в этом вопросе.
— Я люблю мероприятия с молодежью. УрГЭУ всегда помогал. Силин (Яков Петрович Силин, ректор УрГЭУ — прим. ред.) удивительный человек. Ежегодно мы проводила в УрГЭУ дни снятия блокады Ленинграда: приглашали студентов из всех вузов города Екатеринбурга и даже из области. И приглашали блокадников Ленинграда.
— Даже не верится, что еще кто-то жив.
— Живы. И я очень многих знала и очень со многими до сих пор перезваниваюсь. Живы. И с Силиным всегда можно договориться насчет зала для мероприятия, организации чаепития. И все практически бесплатно. И группу знаменосцев организовывали из ребят кадетского корпуса или Центрального военного округа. И под звуки военного оркестра выносили знамена. Студентов это все впечатляло. И рассказы переживших блокаду, какой хлеб они ели, сколько.
Мне после одного такого мероприятия звонит девочка из медицинского университета и говорит: «Янина Ивановна, я пришла домой и попросила маму, чтобы она мне взвесила 200 граммов черного хлеба. Как эта женщина-блокадница рассказала, что было 200 граммов на день, а еще и какой этот хлеб был тяжелый. Мама мне взвесила, и я как увидела... Янина Ивановна, не могу вам не сказать спасибо, я просто плакала». Она плачет и мне об этом рассказывает. Само по себе вот это действо маленькое, простой рассказ оставляет впечатление. Такое вот живое общение.
Мне после одного такого мероприятия звонит девочка из медицинского университета и говорит: «Янина Ивановна, я пришла домой и попросила маму, чтобы она мне взвесила 200 граммов черного хлеба. Как эта женщина-блокадница рассказала, что было 200 граммов на день, а еще и какой этот хлеб был тяжелый. Мама мне взвесила, и я как увидела... Янина Ивановна, не могу вам не сказать спасибо, я просто плакала». Она плачет и мне об этом рассказывает. Само по себе вот это действо маленькое, простой рассказ оставляет впечатление. Такое вот живое общение.
— Это связь поколений.
— Да, связь поколений. И с колледжами мы работали, и с музыкальными школами, просто со школами. Гимназия № 9 такой наш хороший помощник. Везде нам шли навстречу.
— Вам, видимо, вообще сложно отказать Янина Ивановна.
— Я просто сама каждую дырочку проверяла, и все сценарии мероприятий писала сама, и сама договаривалась с ректорами, делала все сама. Это хорошее дело, потому что нельзя полностью от этого отказываться. Только надо улавливать моменты, которые очень важны сегодня для молодых. Им нельзя назидать, им нельзя талдычить, им нельзя бить по голове, им нужно, чтобы они сами почувствовали чуть-чуть и сами поучаствовали. Или они выносят знамена на мемориале на Широкой Речке, или они говорят стихи, или они возлагают цветы на могилу Неизвестного солдата. Вот самое главное — чтобы они были какими-то маленькими, но участниками.
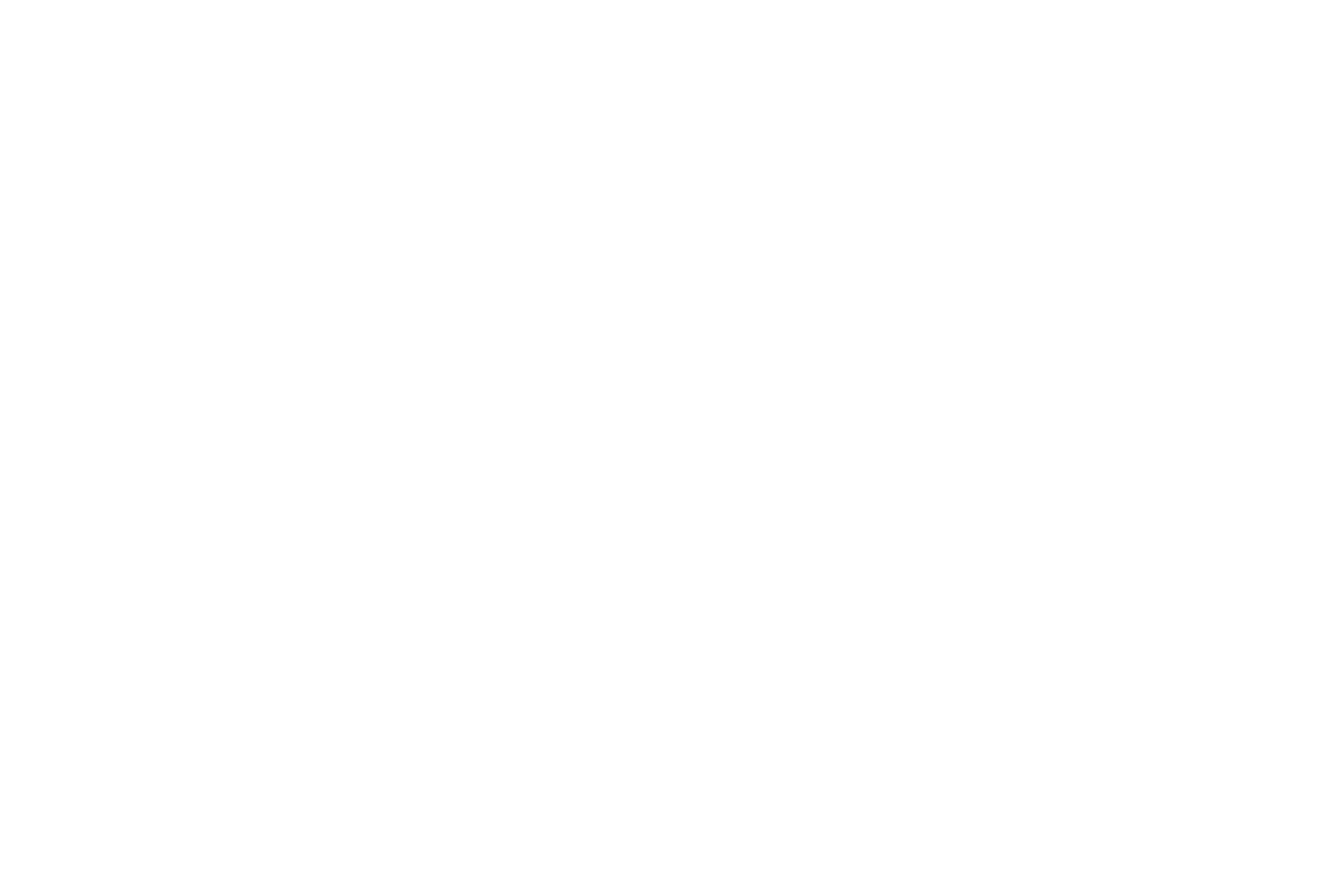
Янина Ивановна и Наталья Киселева возле дерева, которое
посадил Корогодский в дни проведения фестиваля "Реальный театр" в 1992. 2021 г.
посадил Корогодский в дни проведения фестиваля "Реальный театр" в 1992. 2021 г.
— Янина Ивановна, как вы хотите свой юбилей отпраздновать? У вас какого числа день рождения в июне?
— 24 июня. Не думала пока. Здесь, в театре, очень много мероприятий, спектаклей. Тут каждый день занят.
— Кого вы хотите увидеть в свой день?
— Своих артистов театра, в котором я работала, в том числе тех, кто уже на пенсии, руководителей города, руководителей театров, того же Петю Стражникова, Колю Коляду, который... ух, какой Коляда!
— Тоже ведь пересекались? Он у вас не работал, он же в Драме работал.
— Он работал в Драме. Но когда я здесь работала, и когда была возможность, старые какие-то ткани, списанные со склада, я всегда отдавала Коле. Теперь он сам встал на ноги давно, хорошо встал, может быть, даже не хуже, чем Театр юного зрителя, хотя это все-таки другая история. ТЮЗ — бюджетный театр, а у Коли — частный, и он все делает, что ему надо. Но у каждого свой путь.
— При вас началась реконструкция театра?
— Нет, уже после меня. Мы просто о реконструкции говорили, и самое серьезное, что удалось мне сделать, это автопарковка, которая и на сегодняшний день остается за театром. Это роскошное место, когда ты приезжаешь, можешь оставить машину. Это очень потрясающе!
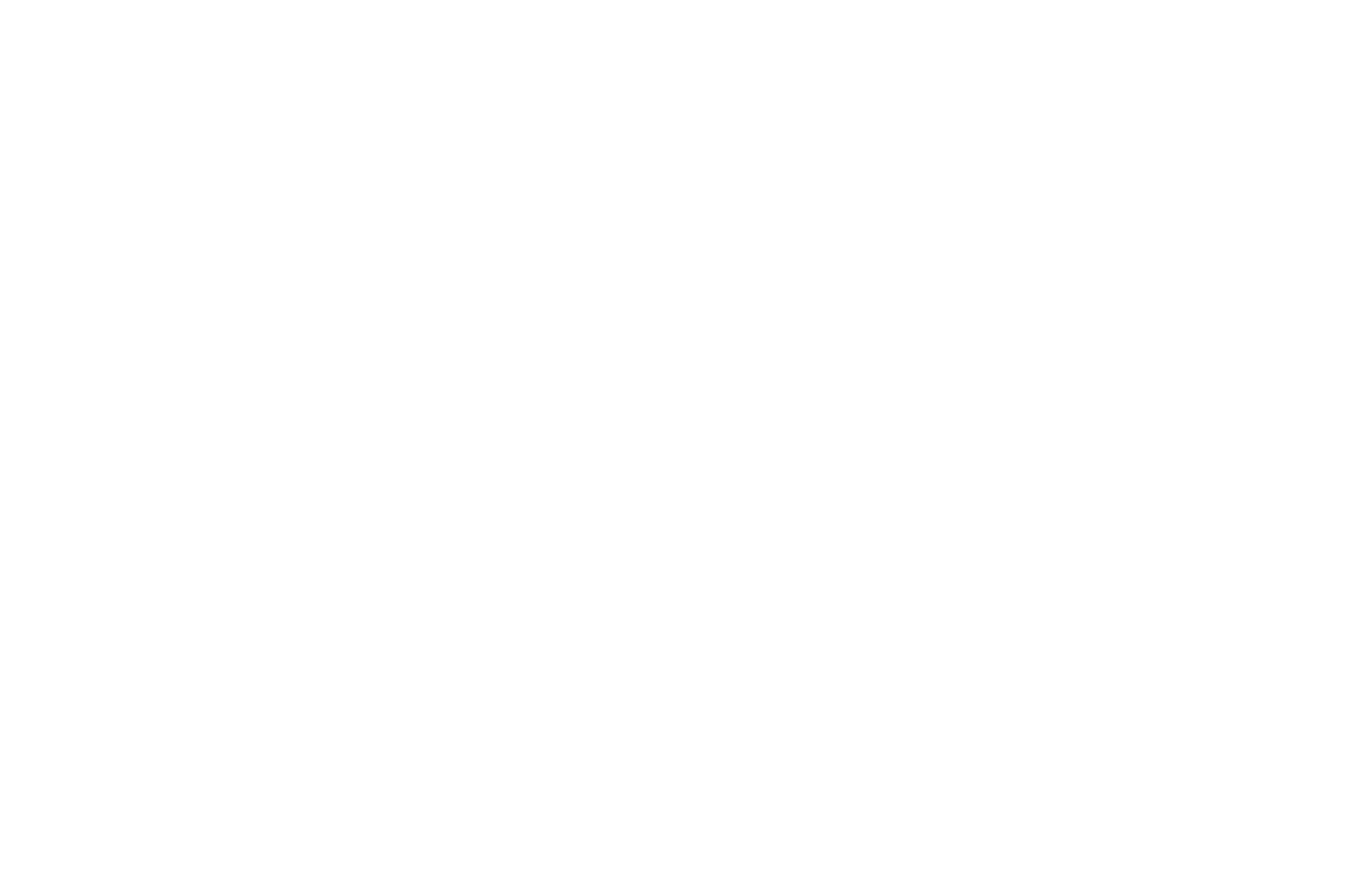
Театру 85 лет. 2015 г.
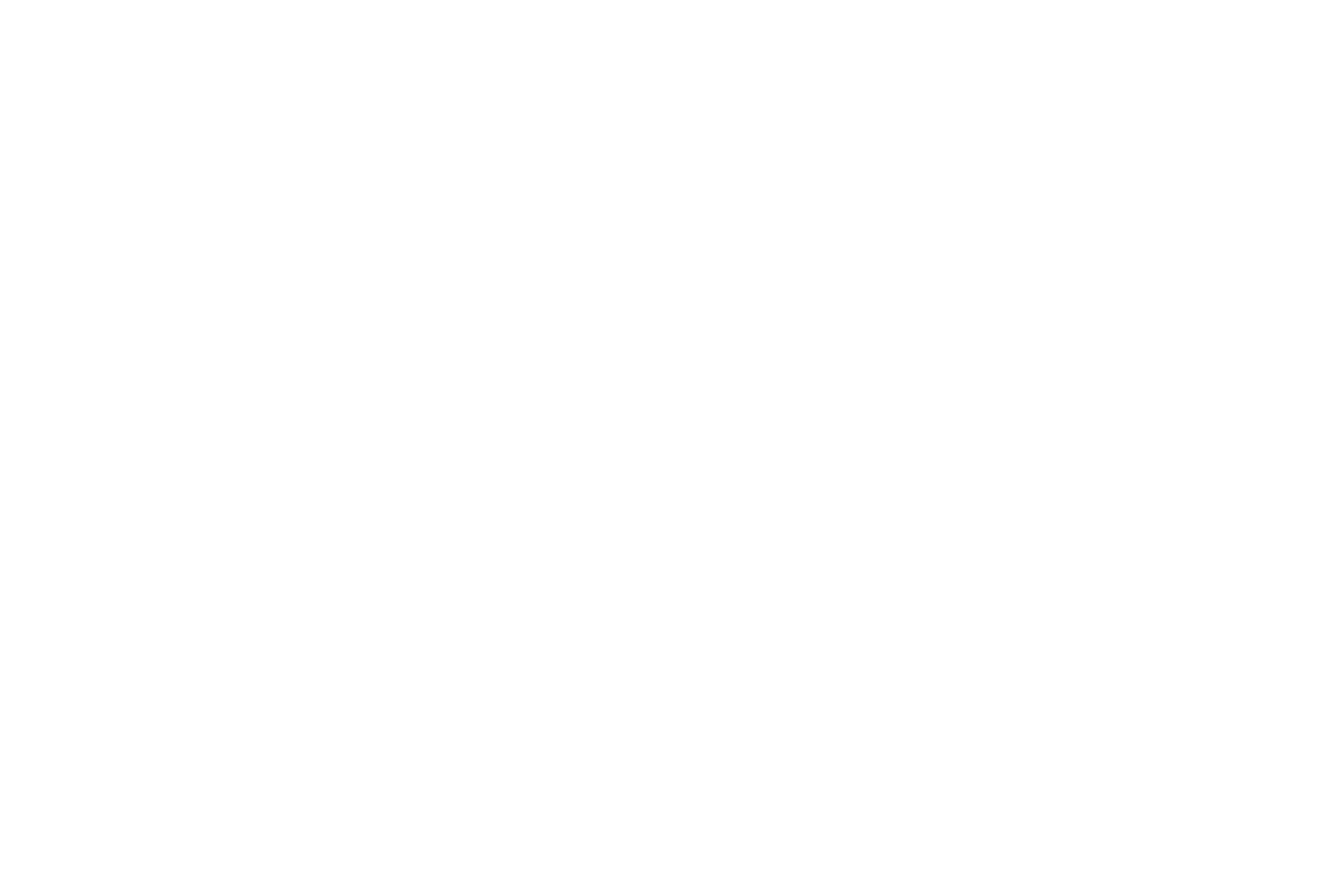
Театру 85 лет. 2015 г.
— Олег Семенович Лоевский до сих пор работает в театре?
— Работает, работает. Занимается фестивалем «Реальный театр». Он ездит сам и отсматривает все спектакли. Конечно, мы с ним. Мы любили свой театр, мы очень любили свой театр. И мы не конфликтовали, а просто вели очень серьезные разговоры до трех, до четырех часов ночи. Мы многие вопросы коллегиально обсуждали. И главный художник театра Толя Шубин был при разговорах, и режиссеры.
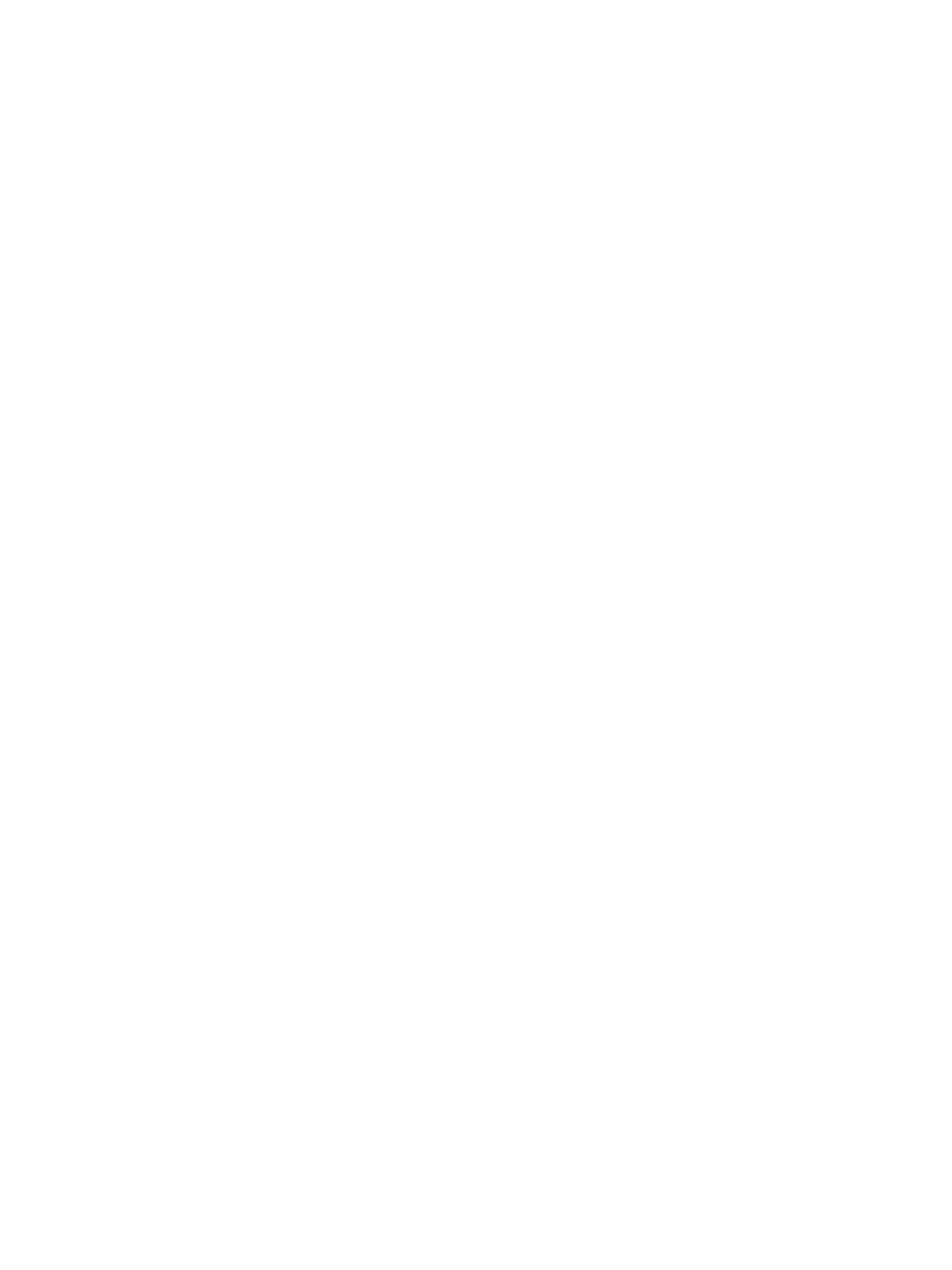
С Олегом Лоевским на открытии фестиваля «Реальный театр» 2007 г.
— Анатолий Шубин — где он сейчас?
— Шубин ушел из театра. Он ездит по стране и ставит спектакли как сценограф. Почему отпустили Толю Шубина?! Это же ведь легендарные люди! Сейчас часто на сцене не видно лица артистов. Но самое главное, я все время говорю, лица артистов! Лица артистов! Лица артистов почему не видны на сцене? Что вы делаете? Лица дайте! Дайте мне лицо артиста, его переживания, его взгляды, его речь, уйдите от этих микрофонов, уйдите! Делайте как-то так, чтобы все было. Ну, как раньше было. Не было же микрофонов! Надо, чтобы живой голос звучал для зрителей, особенно для детей.
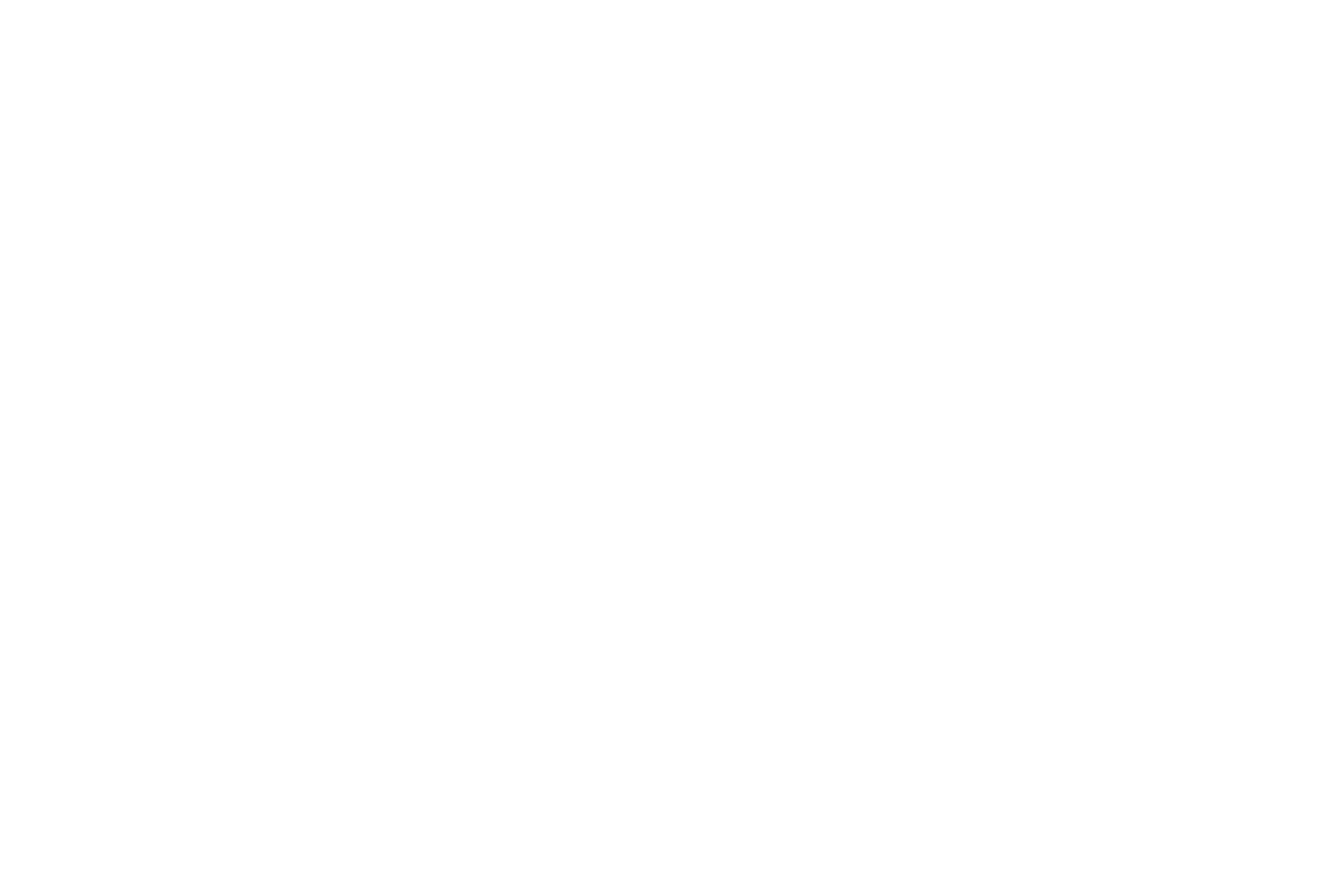
В фойе ТЮЗа. 2025 г.
