«Если бы не было мамы, не было бы и папы»
Беседа с Илоной Николаевной Поповой (Никоновой)
Над текстом работали: Ксения Какшина, Ирина Лядова
Над текстом работали: Ксения Какшина, Ирина Лядова
Семья Никоновых — коренные екатеринбуржцы. Первые три поколения работали мастеровыми Екатеринбургского монетного двора: прадед Илоны Николаевны служил фельдфебелем в Туркестане, дед Григорий Никонов — бухгалтер, спортсмен и заядлый охотник, отец Николай Никонов — известный писатель. Его именем названа одна из центральных улиц города, проходящая в том месте, где когда-то стоял родительский дом писателя. Илона некогда Никонова, а сейчас Попова — преподаватель английского языка, переводчик.
Она вспоминает об атмосфере в семье, творчестве и увлечениях отца, а также рассказывает о том, как и почему взялась за исследование истории рода Никоновых.
Она вспоминает об атмосфере в семье, творчестве и увлечениях отца, а также рассказывает о том, как и почему взялась за исследование истории рода Никоновых.
— Первый вопрос: каково быть дочерью писателя? Когда пришло осознание, что папа уникален?
— Дело даже не в его профессии. Ты просто живешь в этой обстановке. Нет особого осознания, есть факт. Мы жили в полуторке на Ленина, 48. Наша квартира — это часть большой четырехкомнатной квартиры, чешский проект, как нам говорили. Из нее наши архитекторы сделали «полуторку» и «двушку». Нам досталась «полуторка»: проходная кухня без окон и две комнаты — одна, огромная по тогдашним меркам в 24 метра, другая маленькая на 12. Спальня родителей была за проходной кухней, там же находился папин кабинет. Когда он работал, нельзя было ходить и шуметь, но я же маленький и шустрый ребенок, который исследует всю квартиру, поэтому иногда мне попадало за то, что я шумела и мешала работать.
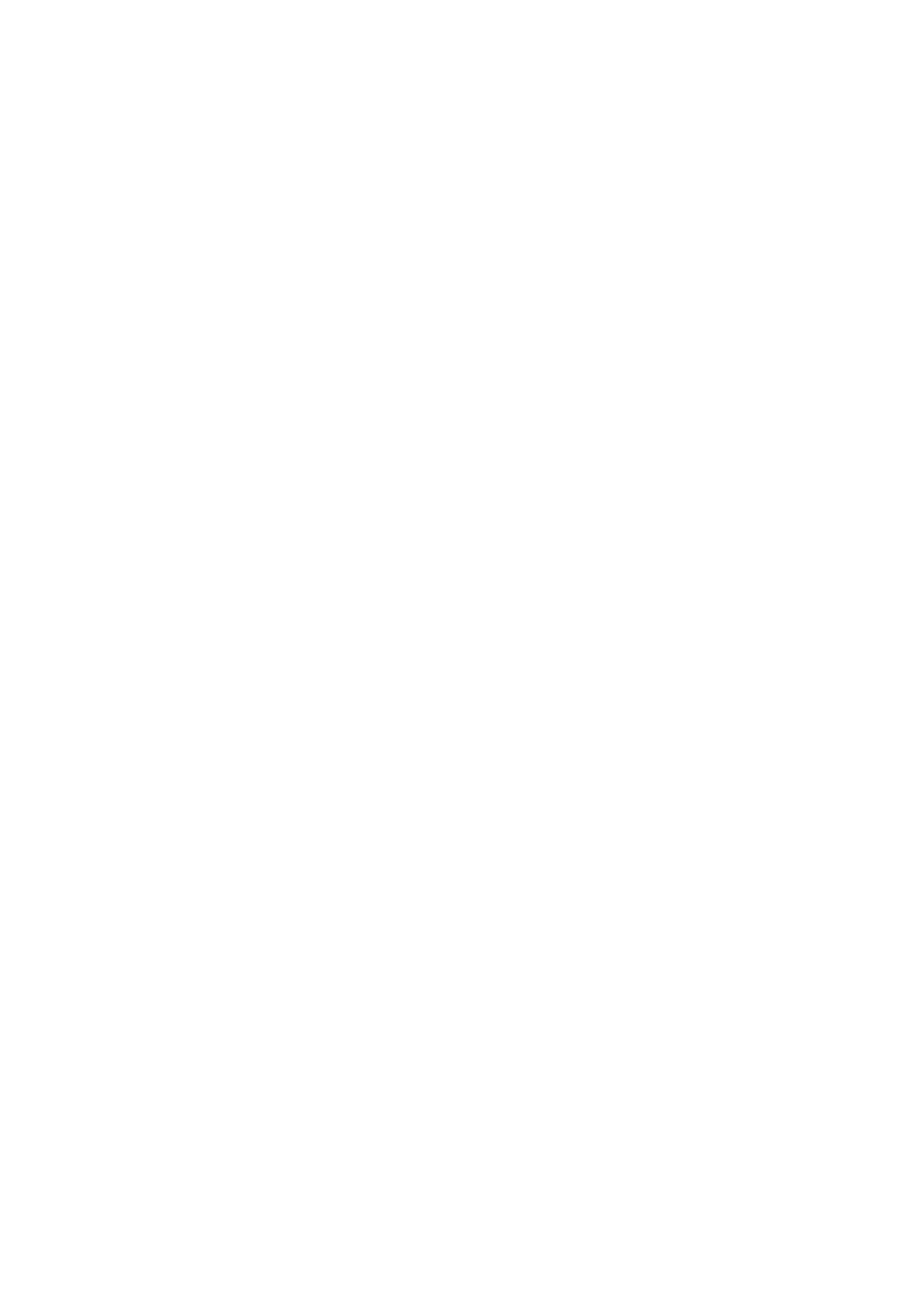
Николай Григорьевич Никонов.
Нач. 1950-х годов
Нач. 1950-х годов
— В какой момент вы переехали в один из домов Госпромурала?
— Когда мой брат женился, папа решил разменять нашу квартиру в центре — надо было расшириться. И мы поменялись на Ленина, 54, корпус 4, квартира 237. Пятикомнатная квартира. Очень странная. Справа от входа в квартиру спальня родителей, потом две проходные комнаты большие, из них проходишь в маленькие две комнаты: в одной был папин кабинет, вторую занял мой брат. И еще малюсенькая кухня, выкрашенная отвратительной сине-зеленой краской.
Я жила в проходной. В первый класс пошла, это был 1969 год. Мы прожили там недолго. Там было невозможно, папа не мог там жить. Он не мог жить в незнакомых местах, которые ему неприятны. А эта квартира была ему крайне неприятна. И мы обменялись обратно, потеряв в площади. В тот дом, из которого выехали. Вернулись на круги своя, но этажом выше.
Я жила в проходной. В первый класс пошла, это был 1969 год. Мы прожили там недолго. Там было невозможно, папа не мог там жить. Он не мог жить в незнакомых местах, которые ему неприятны. А эта квартира была ему крайне неприятна. И мы обменялись обратно, потеряв в площади. В тот дом, из которого выехали. Вернулись на круги своя, но этажом выше.
— Вы ведь росли в семье не только писателя, но и в семье учителей.
— Да, папа работал очень долго учителем и директором ШРМ (Школа рабочей молодежи), потом просто учителем. Когда стал членом Союза писателей в 1968 году, распрощался с учительской профессией.
— Работа в Школе рабочей молодежи — это был осознанный выбор Николая Григорьевича? Ему нравилось работать со взрослыми?
— О том, что ему нравилось, не шло никакой речи. Это была необходимость. Отец должен был работать в голодное время и помогать семье, потому что жить было не на что. Отец ушел из школы № 2 Железнодорожного района. Она описана им в повести «Глагол несовершенного вида». Делать ему там было решительно нечего, атмосфера была жуткая: главное было выжить, о получении образования речь не шла. Он пошел сначала учиться в ШРМ № 7, а потом и работать.
У меня сохранилось его собственноручно написанная в 1948 году автобиография, где он писал: «По бытовым и материальным условиям я оставил школу № 2 и, чтобы закончить полное среднее образование, поступил в 10-й класс школы рабочей молодежи № 7, где ранее уже учился, кончая совместно седьмой класс Железнодорожной школы № 2 и 8-й класс данной школы, где я и сейчас продолжаю учиться».
У меня сохранилось его собственноручно написанная в 1948 году автобиография, где он писал: «По бытовым и материальным условиям я оставил школу № 2 и, чтобы закончить полное среднее образование, поступил в 10-й класс школы рабочей молодежи № 7, где ранее уже учился, кончая совместно седьмой класс Железнодорожной школы № 2 и 8-й класс данной школы, где я и сейчас продолжаю учиться».
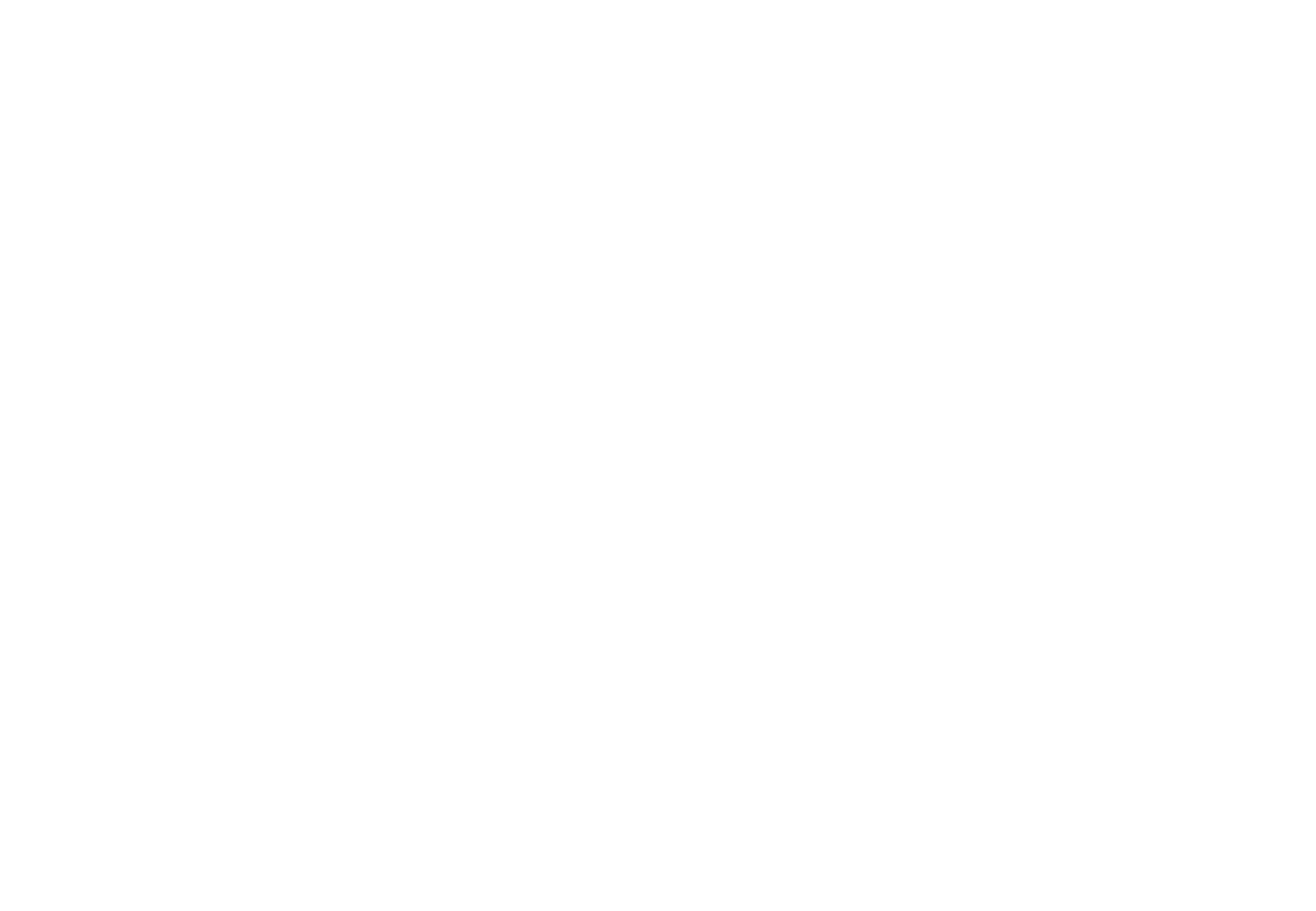
Николай Григорьевич Никонов с учителями и учениками ШРМ №7 на демонстрации.
1949 или 1950 год
1949 или 1950 год
— Ученицы, наверное, влюблены были в Николая Григорьевича без памяти? Такой брутальный и яркий мужчина! Как мама переносила это?
— Сложно (смеется). Но лучше быть ярким человеком, чем никаким. И важно быть с характером. Может быть, мама была в тени отца, но индивидуальностью обладала несомненной. Могу снова привести для правильного понимания ситуации только одну цитату из «Орнитоптеры Ротшильда»: «Плотина тогда была главным местом гуляний, встреч и свиданий. На плотине очень редко попадались еще красавицы, то есть совершенства с такими лицами, станами, взглядами, косами, что становилось даже больно, и жена тогда говорила мне, пасмурно, угрюмо бредущему: «Ну, опять отравился, теперь на неделю хватит страдать!» Я любил жену за такое редкое понимание и великодушное всепрощение!»

Антонина и Николай Никоновы.
Начало 1950-х годов
Начало 1950-х годов
— А мама кем работала?
— Мама тоже выпускница Педагогического института, много лет преподавала в школе русский язык и литературу, после института работала в деревне Поречье, а большую часть жизни — в школе № 35.
Увлечение всей ее жизни — литература. На память мама знала очень много. Наизусть мне в детстве читала всю поэму Пушкина «Руслан и Людмила». При этом ее хватало и на дачу, и на брата, а главное, на папу. На все ее хватало. Позже я маму спрашивала: «Как у тебя на все терпения хватало?» Мама отвечала: «Ты знаешь, мне было несложно. Я папу любила, поэтому...». У нее все это органически получалось, поэтому никакой проблемы с тем, чтобы растворится в его идеях, в том, чтобы заниматься практической стороной всех увлечений отца — она их просто разделяла без всяких вопросов. Если папа занимался теорией о том, как разводить кактусы, вел переписку с другими кактусоводами, то мама, отлично зная и понимая эту теорию, пропаривала землю, садила кактусы в горшки, пропалывала. Мама часто отвечала за практическую часть.
Папа написал «Певчие птицы» — это результат его орнитологических наблюдений. Фактически разведением корма в виде мучных червей, кормлением и уходом за птицами они занимались вместе — и папа, и мама. Даже я, когда родители уезжали, кормила этими мучными червями птиц.
Мама строила с отцом дом на даче совершенно на равных, сама занималась и садом, и огородом. Не надо забывать, что в те времена многие семьи имели на столе то, что вырастили, а наша семья выращивала овощи на весь год, и это считалось в порядке вещей.
Но и в творческом плане мама не уступала отцу, передо мной тетрадь в желтой обложке, на титуле надпись: «Материал к повести «Когда начнешь вспоминать», мои записки для Коли, 1966 год». Читать их не менее интересно, чем саму повесть. Для меня они представляют отдельное произведение. Кстати, записки опубликованы в журнале «Урал» № 12 за 2020 год.
Увлечение всей ее жизни — литература. На память мама знала очень много. Наизусть мне в детстве читала всю поэму Пушкина «Руслан и Людмила». При этом ее хватало и на дачу, и на брата, а главное, на папу. На все ее хватало. Позже я маму спрашивала: «Как у тебя на все терпения хватало?» Мама отвечала: «Ты знаешь, мне было несложно. Я папу любила, поэтому...». У нее все это органически получалось, поэтому никакой проблемы с тем, чтобы растворится в его идеях, в том, чтобы заниматься практической стороной всех увлечений отца — она их просто разделяла без всяких вопросов. Если папа занимался теорией о том, как разводить кактусы, вел переписку с другими кактусоводами, то мама, отлично зная и понимая эту теорию, пропаривала землю, садила кактусы в горшки, пропалывала. Мама часто отвечала за практическую часть.
Папа написал «Певчие птицы» — это результат его орнитологических наблюдений. Фактически разведением корма в виде мучных червей, кормлением и уходом за птицами они занимались вместе — и папа, и мама. Даже я, когда родители уезжали, кормила этими мучными червями птиц.
Мама строила с отцом дом на даче совершенно на равных, сама занималась и садом, и огородом. Не надо забывать, что в те времена многие семьи имели на столе то, что вырастили, а наша семья выращивала овощи на весь год, и это считалось в порядке вещей.
Но и в творческом плане мама не уступала отцу, передо мной тетрадь в желтой обложке, на титуле надпись: «Материал к повести «Когда начнешь вспоминать», мои записки для Коли, 1966 год». Читать их не менее интересно, чем саму повесть. Для меня они представляют отдельное произведение. Кстати, записки опубликованы в журнале «Урал» № 12 за 2020 год.
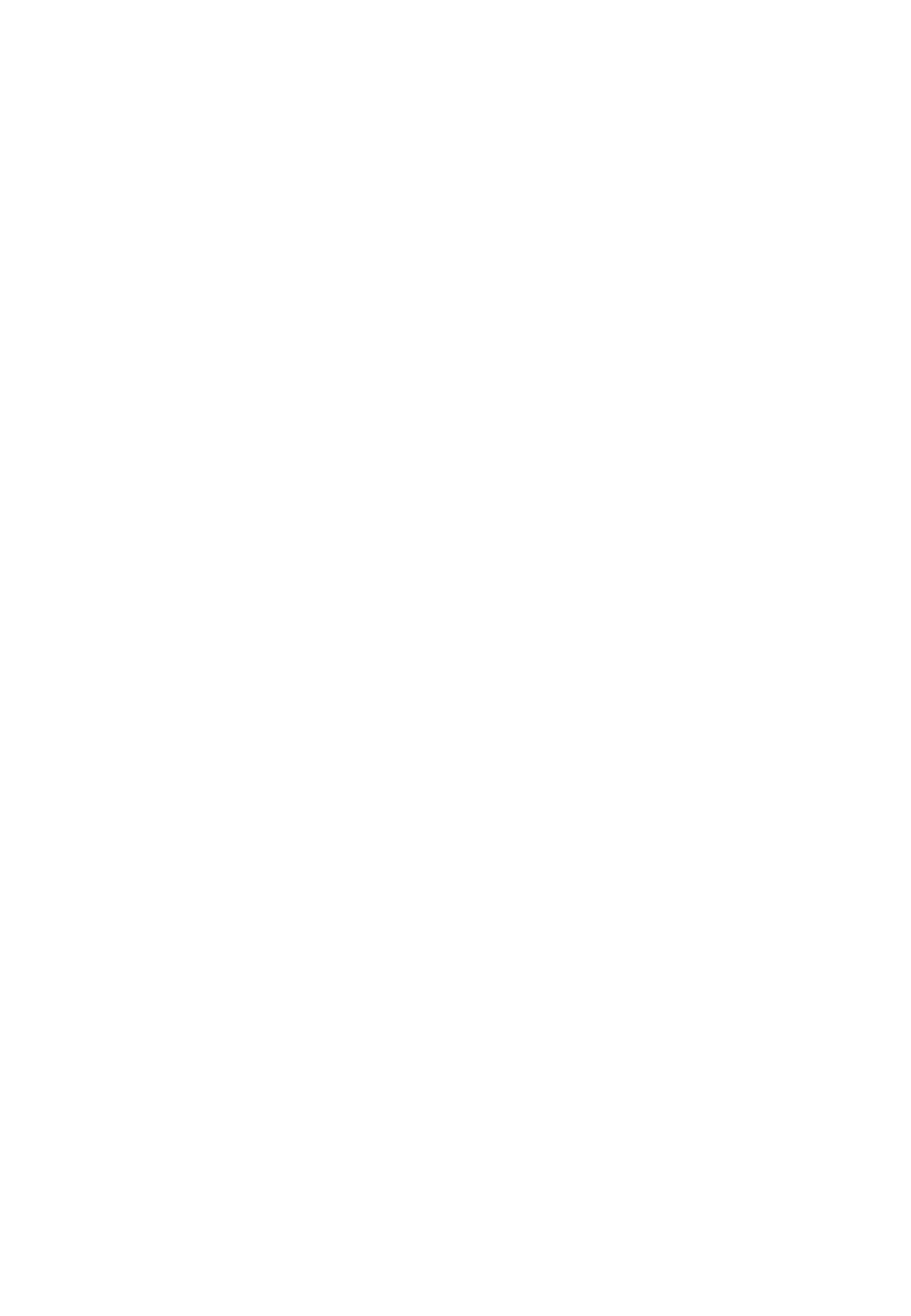
Антонина Никонова (Томилова).
Нач. 1950-х годов
Нач. 1950-х годов
— Читаю сейчас книгу «Солнышко в березах», очень мне нравится...
— Это про дом на улице Спорта (исчезнувший в Екатеринбурге переулок). Я его помню не очень хорошо, потому что провела там только первый год своей жизни. Есть мои фото с дедом Григорием Григорьевичем из этого дома.
Кровать мне сколотил папа, а дед ее периодически приводил в порядок, заколачивая гвозди топором — я ее просто к году раскачала. Никаких манежей тогда не существовало. Я родилась семимесячной, и два месяца мы с мамой пролежали в больнице. А потом мама сразу пошла на работу — декретного отпуска тогда не было, и за мной смотрел мой брат, который был на одиннадцать лет меня старше. Тогда было понятие «кормить по часам». Был поставлен будильник, и ты хоть уревись, но пока будильник не прозвенит, брат меня не кормил, раз не положено.
Когда мне был год, в 1963 году, мы переехали в квартиру на Ленина, 48. А в Мельковской слободе по улице Спорта, 20 (ранее Мельковская набережная, дом 5) был частный дом, который принадлежал бабушке Николая Григорьевича Ирине Карповне. В 1931 году, судя по записи в домовой книге, они туда въехали. Моему папе тоже был тогда год, а до этого они жили в том, никоновском доме, который не сохранился, на углу Сибирского проспекта и Никольской улицы. Место мне это папа в свое время показывал, но точный адрес я узнала из пасхальной открытки, посланной родственниками и адресованной «ЕВБ Григорию Григорьевичу Никонову, угол Сибирскаго проспекта и Никольской улицы 71/81». Cегодня это улицы Куйбышева и Белинского.
Кровать мне сколотил папа, а дед ее периодически приводил в порядок, заколачивая гвозди топором — я ее просто к году раскачала. Никаких манежей тогда не существовало. Я родилась семимесячной, и два месяца мы с мамой пролежали в больнице. А потом мама сразу пошла на работу — декретного отпуска тогда не было, и за мной смотрел мой брат, который был на одиннадцать лет меня старше. Тогда было понятие «кормить по часам». Был поставлен будильник, и ты хоть уревись, но пока будильник не прозвенит, брат меня не кормил, раз не положено.
Когда мне был год, в 1963 году, мы переехали в квартиру на Ленина, 48. А в Мельковской слободе по улице Спорта, 20 (ранее Мельковская набережная, дом 5) был частный дом, который принадлежал бабушке Николая Григорьевича Ирине Карповне. В 1931 году, судя по записи в домовой книге, они туда въехали. Моему папе тоже был тогда год, а до этого они жили в том, никоновском доме, который не сохранился, на углу Сибирского проспекта и Никольской улицы. Место мне это папа в свое время показывал, но точный адрес я узнала из пасхальной открытки, посланной родственниками и адресованной «ЕВБ Григорию Григорьевичу Никонову, угол Сибирскаго проспекта и Никольской улицы 71/81». Cегодня это улицы Куйбышева и Белинского.
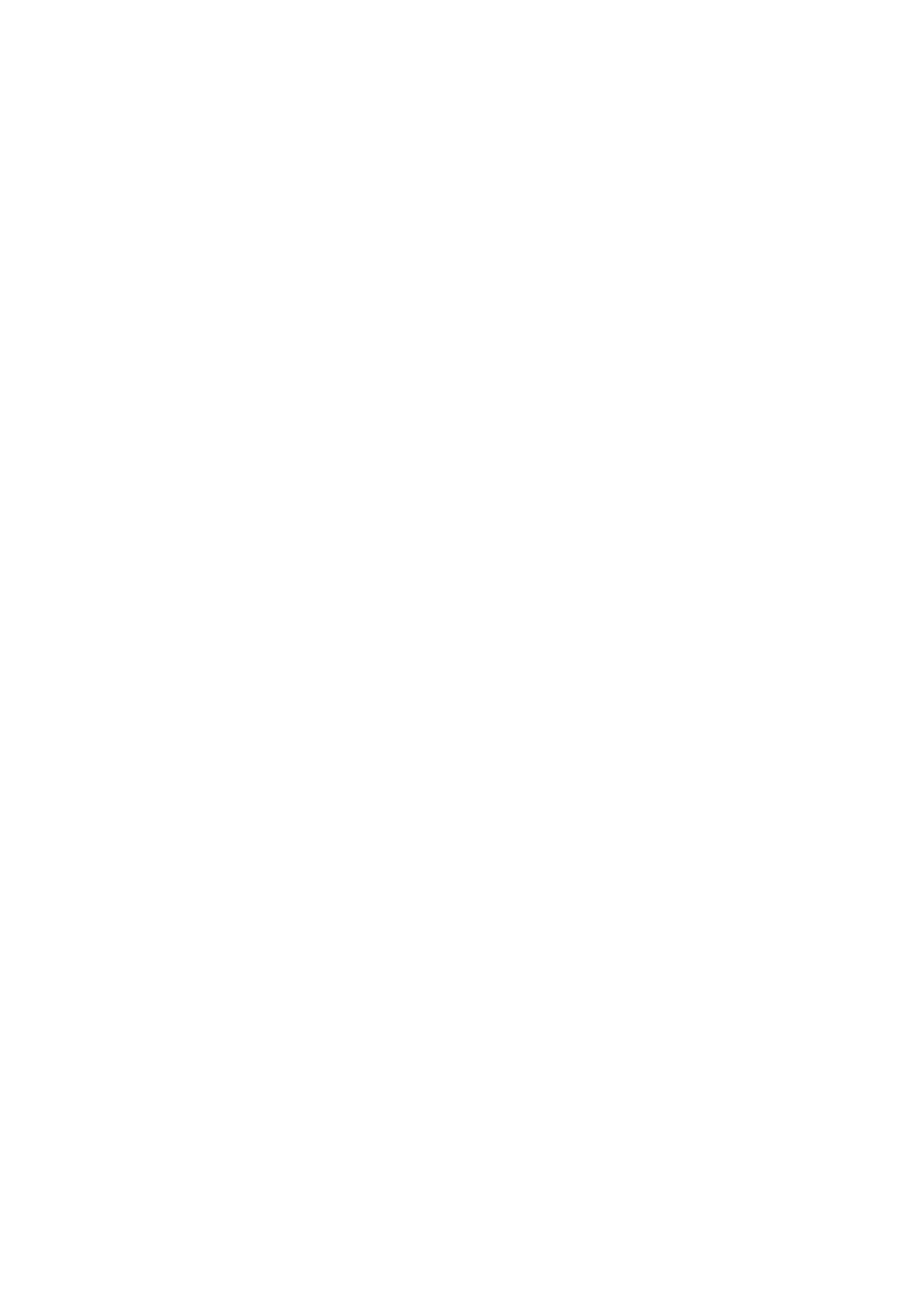
Николай Никонов с дочерью Илоной
в квартире на пр. Ленина, 48 в Новый, 1965-й год
в квартире на пр. Ленина, 48 в Новый, 1965-й год
— На Спорта тоже ведь дом не сохранился?
— Не сохранился. Он был снесен в 1967 году, если я не ошибаюсь. Помню, мы ездили к бабушке и дедушке по улице Толмачева на двухвагонном деревянном трамвае c зеленой и синей ламочками над местом вагоновожатого. Мне было 3—4 года. Бабушку Елену Александровну (маму отца) помню только визуально, она тогда уже страдала от сердечно-сосудистой недостаточности, была очень полной. Дедушка за ней стоически и преданно ухаживал. Я ее помню сидящей на кровати на втором этаже дома либо во дворе на лавочке.
Дедушку я помню гораздо лучше, поскольку он со мной проводил много времени. Я была ребенком «неорганизованным» (так называли детей, не посещавших детский сад). Вернее, в садик я сначала ходила: маме дали место в районном садике, который был на Тургенева, в том здании, где не так давно размещался «Коляда-театр». Печное отопление, вечно запотевшие окна.
Помню, как мы там играли зимой. Во дворе было бревно гнилое. Мы его колупали, щепки превращались в рыбок... Развлекали себя сами. Помню вечные попытки воспитателей уложить нас спать на раскладушки.
Потом меня из садика изъяли, я там не прижилась. И я была то с отцом, то с братом, то с мамой. Больше всего я любила оставаться с дедом. Я была жадным слушателем его историй в лицах о том, как в пять утра отец посылал его за раками, когда мимо дома ехал торговец на подводе: «Гришко, беги-ко, возьми ведро раков». Как тайком от строгой бабушки-единоверки ел в пост ситный хлеб по дороге из училища, а заходя домой делал «постное лицо». Как ходил за груздями где-то в районе теперешнего поселка Елизавет, и один раз нашел их столько, что корзины не хватило. Набрал полную рубашку и принес их, как в рюкзаке. Он пересказывал мне книжки Луи Буссенара и строил со мной из покрывал и мебели «Пещеру Лихтвейса», читал мне сказки братьев Гримм и Андерсена.
Жили мы с дедом раздельно. Когда снесли дома на Спорта, дедушке дали от завода ведомственную квартиру на улице Авиационной. До конца жизни он приезжал к нам по два-три раза в неделю. Детство я провела под большим влиянием деда. А поскольку его рассказы частенько повторялись, то в моей голове они засели на всю жизнь.
Дедушку я помню гораздо лучше, поскольку он со мной проводил много времени. Я была ребенком «неорганизованным» (так называли детей, не посещавших детский сад). Вернее, в садик я сначала ходила: маме дали место в районном садике, который был на Тургенева, в том здании, где не так давно размещался «Коляда-театр». Печное отопление, вечно запотевшие окна.
Помню, как мы там играли зимой. Во дворе было бревно гнилое. Мы его колупали, щепки превращались в рыбок... Развлекали себя сами. Помню вечные попытки воспитателей уложить нас спать на раскладушки.
Потом меня из садика изъяли, я там не прижилась. И я была то с отцом, то с братом, то с мамой. Больше всего я любила оставаться с дедом. Я была жадным слушателем его историй в лицах о том, как в пять утра отец посылал его за раками, когда мимо дома ехал торговец на подводе: «Гришко, беги-ко, возьми ведро раков». Как тайком от строгой бабушки-единоверки ел в пост ситный хлеб по дороге из училища, а заходя домой делал «постное лицо». Как ходил за груздями где-то в районе теперешнего поселка Елизавет, и один раз нашел их столько, что корзины не хватило. Набрал полную рубашку и принес их, как в рюкзаке. Он пересказывал мне книжки Луи Буссенара и строил со мной из покрывал и мебели «Пещеру Лихтвейса», читал мне сказки братьев Гримм и Андерсена.
Жили мы с дедом раздельно. Когда снесли дома на Спорта, дедушке дали от завода ведомственную квартиру на улице Авиационной. До конца жизни он приезжал к нам по два-три раза в неделю. Детство я провела под большим влиянием деда. А поскольку его рассказы частенько повторялись, то в моей голове они засели на всю жизнь.
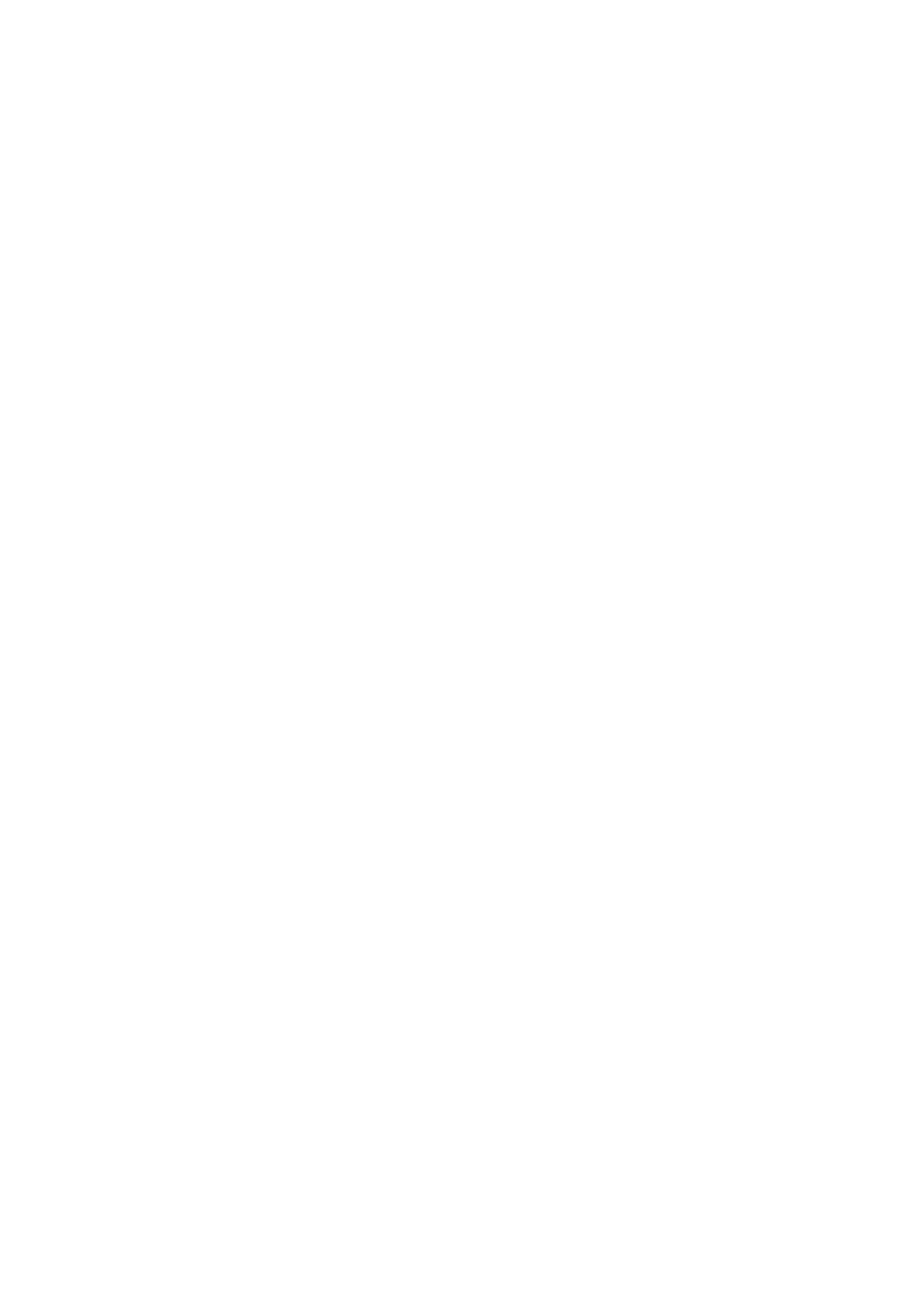
Антонина Александровна и Николай Григорьевич Никоновы на улице Спорта, 20.
1955 год
1955 год
— Николай Григорьевич в своих воспоминаниях очень тепло пишет об отце...
— В их отношениях не было визуальной стороны проявления любви, они были молчаливые и значимые друг для друга. Отец был единственным сыном, которого Григорий Григорьевич очень любил. Они всегда ладили. Дедушка папу очень уважал. Когда отец был уже в писательском звании, это стало предметом его особой гордости.
— А что для вашего отца значило стать членом Союза писателей?
— Думаю, это для него было очень значимо, потому что, какой солдат не мечтает быть генералом. Это же советская действительность: для того, чтобы чувствовать себя состоявшимся человеком, надо было добиваться успеха. Неамбициознный мужчина — это не мужчина. Папа сначала занял должность зампредседателя во времена Льва Сорокина, а потом стал и председателем Уральского отделения Союза писателей.
— В командировки от Союза писателей отец ездил? В Коктебель, например?
— Нет, у папы была фобия перемены мест, он не мог ездить на дальние расстояния. Смог он путешествовать и один, но чаще с женой, когда ему было уже более 40 лет. К тому времени его фобия ослабла сама по себе, хоть и не исчезла совсем. Но все-таки во Францию с мамой он съездил. Помню, в 1978 году сдавала экзамены в педагогический институт. Мама оставила мне билеты по русскому языку и литературе, считалось, что этого достаточно. Я готовилась самостоятельно, а родители поехали во Францию. Поездки были короткие. Таких поездок было две или три.
— Как их история с вашей мамой Антониной началась?
— Родители очень рано поженились. Папе было 18, маме 20. Папа маму высмотрел в институте на какой-то из вечеринок и сказал: «Вот это будет моя жена». Потом папа из-за мамы два курса за один год окончил, чтобы ее догнать. Но папа никогда младше мамы не выглядел.
У меня тоже муж младше меня на два года. Мы знаем друг друга c подросткового возраста. Но мы поженились уже гораздо позже, когда мне было 29. У нас совсем другая история. Папа, когда увидел маму, решил сразу, что ему нужна эта женщина, а если папа что-то решил...
(Рассматривают фотографии в семейном альбоме)
У меня тоже муж младше меня на два года. Мы знаем друг друга c подросткового возраста. Но мы поженились уже гораздо позже, когда мне было 29. У нас совсем другая история. Папа, когда увидел маму, решил сразу, что ему нужна эта женщина, а если папа что-то решил...
(Рассматривают фотографии в семейном альбоме)
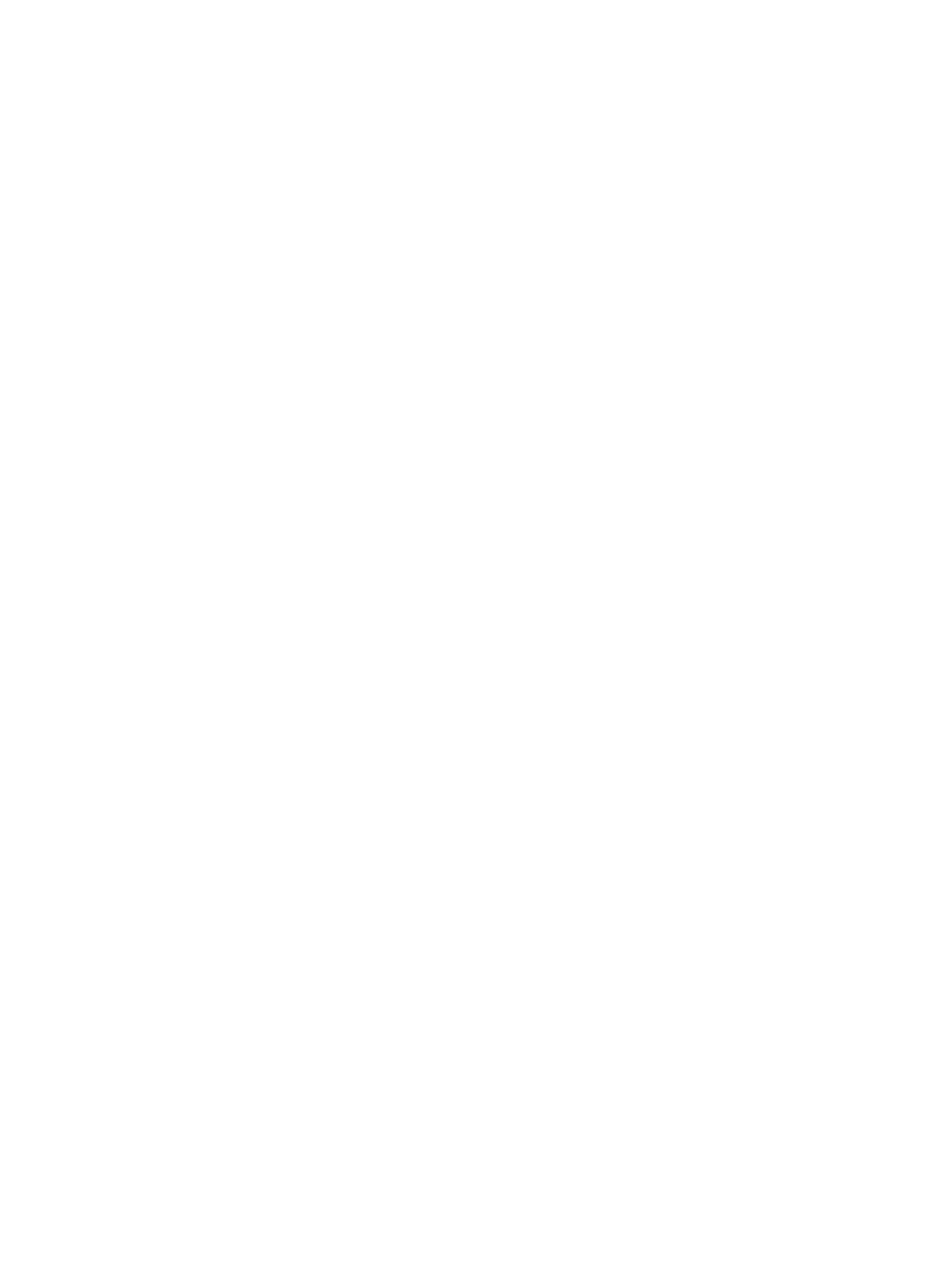
Фотоальбом оформлен и подарен Николаем Григорьевичем жене на 26-летие в 1954 году
— Папа делал эти теплые фотографии? В них много любви.
— Да, папа делал фотографии своим ФЭД (марка фотоаппарата). Когда они поженились, сначала жили с родителями отца на улице Спорта. Дом большой был. Семья занимала второй этаж, на первом были жильцы.
— Первый вопрос: каково быть дочерью писателя? Когда пришло осознание, что папа уникален?
— Дело даже не в его профессии. Ты просто живешь в этой обстановке. Нет особого осознания, есть факт. Мы жили в полуторке на Ленина, 48. Наша квартира — это часть большой четырехкомнатной квартиры, чешский проект, как нам говорили. Из нее наши архитекторы сделали «полуторку» и «двушку». Нам досталась «полуторка»: проходная кухня без окон и две комнаты — одна, огромная по тогдашним меркам в 24 метра, другая маленькая на 12. Спальня родителей была за проходной кухней, там же находился папин кабинет. Когда он работал, нельзя было ходить и шуметь, но я же маленький и шустрый ребенок, который исследует всю квартиру, поэтому иногда мне попадало за то, что я шумела и мешала работать.

Николай Григорьевич Никонов с коллекцией жуков и бабочек в доме на улице Спорта 20.
1960 год
1960 год
— Откуда мама приехала в Свердловск?
— Мама приехала из села Ерзовское под Туринском. Она единственная из всего класса школы уехала в Свердловск учиться в 1947 году.
— Как мама воспринимала папино творчество?
— Как воспринимала... Она его боготворила. Она читала все подряд. Одна повесть отца вообще написана по запискам мамы. Повесть, в которой описана деревенская жизнь. Называется «Когда начнешь вспоминать». Записи мамы опубликованы в неизменном виде в журнале «Урал» № 12 за 2020 год к папиному девяностолетию. Я их отредактировала и подготовила к публикации.
— То есть мама тоже склонна была к писательству?
— Мама была человеком интеллектуальным, может быть, в тихом таком варианте, не бросающемся в глаза. Но если бы не было мамы, не было бы и папы.
— А когда вы впервые прочитали книги папы?
— Первыми были сказки. Мне читали «Сказки леса». Все было совершенно обыденно. Из осознанного чтения больше всего мне нравилось «Солнышко в березах», нравились его записи о поездке в Бенелюкс «Париж стоит мессы», его заметки о художниках, людях необычных, которых я знаю немного иначе, с другой стороны, но я их узнаю, описанных папой художественно. Любителей птиц, тех, с кем он общался на визовском рынке, тех, кто приходил к нему поговорить, друзей, которые в доме были. Я их иначе воспринимала...
Я была поздним ребенком, поэтому осознала многие моменты жизни отца гораздо позже. Папа был человеком довольно авторитарным. Когда дети растут в таких семьях, очень много сил и времени уходит на то, чтобы отделить от родительского «я» понимание собственного «я». А потом его отстоять.
Я была поздним ребенком, поэтому осознала многие моменты жизни отца гораздо позже. Папа был человеком довольно авторитарным. Когда дети растут в таких семьях, очень много сил и времени уходит на то, чтобы отделить от родительского «я» понимание собственного «я». А потом его отстоять.
— У вашего отца был период, когда он сталкивался с критикой?
— У отца был целый ряд недоброжелателей. Есть же официальная версия того, что было в войну: только героические медсестры, героические воины. А в романе «Весталка» была другая версия. Журнал «Урал» помог тогда: Лукьянин, главный редактор, встал на папину сторону. По папиной «Стариковой горе» даже собиралось заседание бюро обкома с обвинением в том, что он в повести клевещет на советский строй. Гораздо позже Ельцин говорил: «Мы бы должны перед Никоновым извиниться». Но, естественно, никто не извинился.
—У героини романа «Весталка» был прототип?
— Прототип был сборный. Папа много встречался с настоящими медсестрами, которые были на поле боя. Не с теми, кто получил памятные медали, а с теми, кто действительно участвовал в боевых действиях.
— Меня в романе «Весталка» заинтересовали сюжеты, когда героиня жила на Ленина, 52. Как она праздновала Новый год еще в военные годы в Свердловске. Как она выживала после войны... Это самый больной сюжет.
— Я думаю, что отцу все эти истории рассказывали разные женщины. Он все это переосмысливал и перерабатывал. Конечно, это не одна женщина. Но суть героини, ее характер — это мама моя.
— Интересно, что такой брутальный мужчина взялся за создание женского образа...
— Он очень хорошо понимал женщин, психологию женскую. Он чувствовал их на каком-то животном уровне, на уровне интуиции.
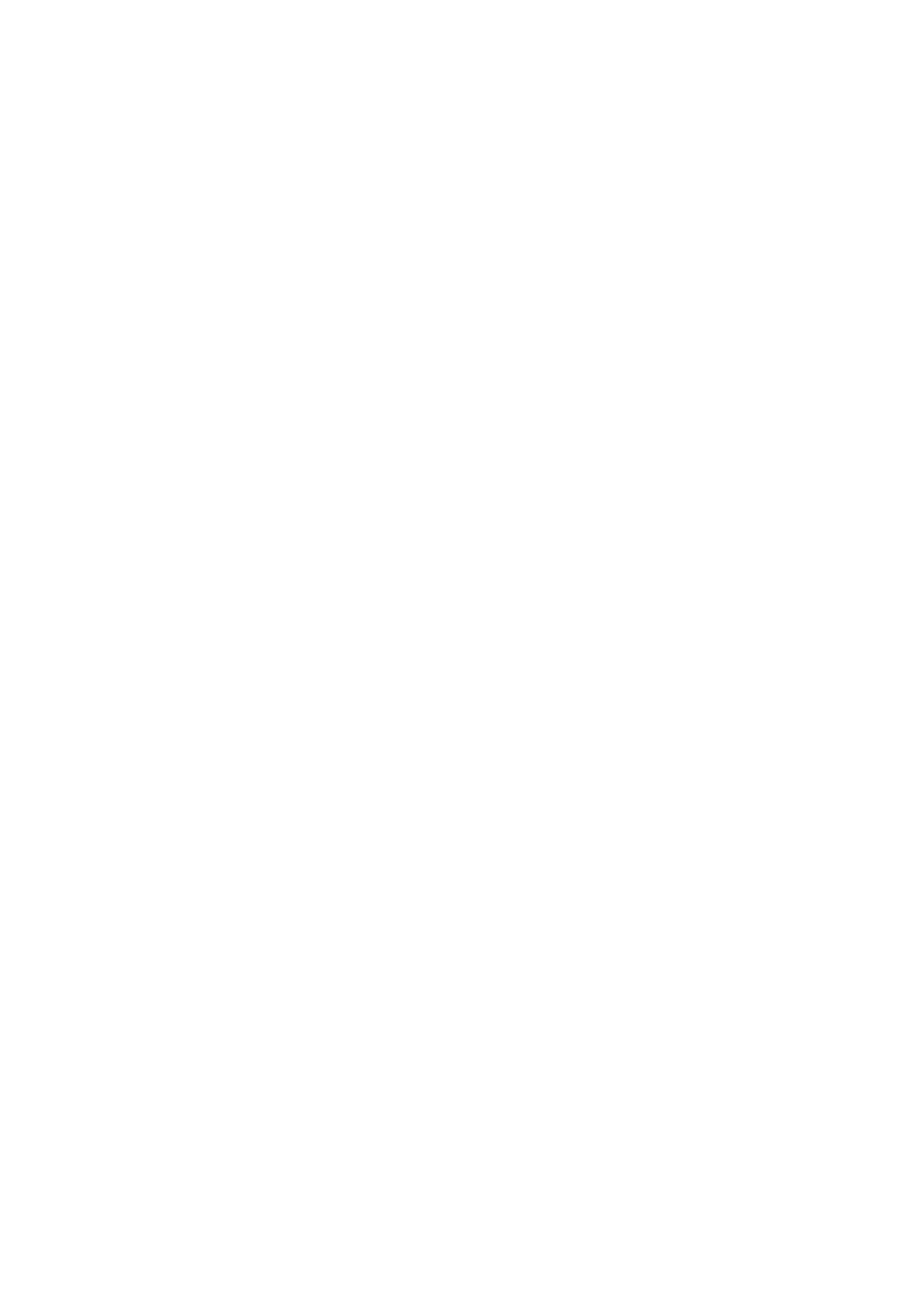
Николай Никонов с коллекцией кактусов.
1969 год
1969 год
— На самом деле, у Николая Никонова удивительный диапазон тем творчества. Есть и произведение под названием «Иосиф Грозный».
— Сталин всегда интересовал отца. Он ведь помнит очень хорошо сталинские времена, так как 1930 года рождения. Тогда, когда Сталина записывали исключительно в минус... А отец вырос в 1930–1940-е... Он писал письмо Сталину, чтобы ему разрешили за один год окончить два курса в институте, чтобы догнать маму. Выкинуть тот период, когда он формировался как личность... Да я сама всю жизнь прожила при Брежневе. Я отлично помню те времена, когда вслед за Брежневым был Черненко, потом Андропов. И когда мы как-то включили телевизор, а там Черненко пытался что-то бормотать. Мы всей семьей схватились за голову синхронным жестом.
Папа видел все эти эшелоны, которые шли с начала войны с Дальнего Востока на фронт, он видел эти поезда, которые приходили с ранеными. Я училась в здании факультета иностранных языков на Степана Разина, которое было эвакгоспиталем, и библиотека у нас была в том самом кабинете, где мой дед в войну работал главбухом эвакогоспиталя. Все переплетается...
Папа видел все эти эшелоны, которые шли с начала войны с Дальнего Востока на фронт, он видел эти поезда, которые приходили с ранеными. Я училась в здании факультета иностранных языков на Степана Разина, которое было эвакгоспиталем, и библиотека у нас была в том самом кабинете, где мой дед в войну работал главбухом эвакогоспиталя. Все переплетается...
— Как отец организовывал он свой писательский труд?
— У него всегда был список дел, которые он должен сделать: сколько он должен написать страниц и так далее. Всегда составлял списки дел на месяц, на год. В Новый год читал нам план на год. Мы вслед за ним тоже что-то такое делали, строили планы.
— У отца были друзья среди писателей, чье творчество он уважал?
— Папа с Николаем Григорьевичем Кузиным дружил. С Лукьяниным (Валентин Лукъянин, главный редактор журнала «Урал» с 1980 по 1999 год) общался, но больше не как друзья, а как коллеги. Дробиза (Герман Федорович Дробиз, писатель, поэт, сценарист) очень уважал как сатирика и поэта. Но я не очень касалась этой части жизни отца, я была молода, у меня были свои интересы.
— У родителей хлебосольный дом был?
— У нас не было такого, чтобы за столом собирались все писатели. Папа этого не очень любил. Во-первых, не было места, где это устраивать. Во-вторых, писательское сообщество своеобразное и оригинальное: в нем те, кто очень много обещают, но обычно очень мало делают. Это относится не только к писательскому сообществу, к любому. Папа не любил пустых разговоров. А вот один на один часто общался и с писателями, и с другими творческими людьми. Люди его очень интересовали. Он даже по улице никогда не ходил просто так, всегда наблюдал за людьми, выражениями лиц, разговором, походкой. Иногда ловлю себя на мысли, что сама иду по улице и наблюдаю.
— А каким было детство ваших родителей?
— Папа с мамой росли в годы войны в совершенно разных условиях. Дед (отец Николая) воевал только в Финскую войну. К началу Великой Отечественной войны был сорокалетним, не попал под призыв, а потом был в эвакогоспитале главбухом. Бабушка (мама Николая Григорьевича) Елена Александровна в 1917 году окончила Первую Екатеринбургскую гимназию, потом случились известные изменения в российской жизни, и она могла со своим происхождением и образованием претендовать на секретарские должности. Была делопроизводителем. После войны преподавала в начальных классах. И все хозяйство семьи держалось на ней и бабушке Ирине Карповне.
В военный годы папа испытал страшнейший голод: они ели лебеду, крапиву до рвоты. Спасло, что они посадили как-то картошку. Его маме дали участок на работе. Туда надо было ехать на товарняке. Летом никто эту картошку не ездил окучивать, но осенью в 1942 году про этот участок вспомнили и поехали туда. Картошку часто крали. Но их участок зарос лебедой так, что никто не увидел картошки. Они выдрали все сорняки и накопали мешок картошки, и это их выручило.
Отца в детстве учили игре на фортепиано, которое он искренне ненавидел. Но потом папа на слух играл на аккордеоне, играл на гитаре и пел, ноты знал.
В военный годы папа испытал страшнейший голод: они ели лебеду, крапиву до рвоты. Спасло, что они посадили как-то картошку. Его маме дали участок на работе. Туда надо было ехать на товарняке. Летом никто эту картошку не ездил окучивать, но осенью в 1942 году про этот участок вспомнили и поехали туда. Картошку часто крали. Но их участок зарос лебедой так, что никто не увидел картошки. Они выдрали все сорняки и накопали мешок картошки, и это их выручило.
Отца в детстве учили игре на фортепиано, которое он искренне ненавидел. Но потом папа на слух играл на аккордеоне, играл на гитаре и пел, ноты знал.
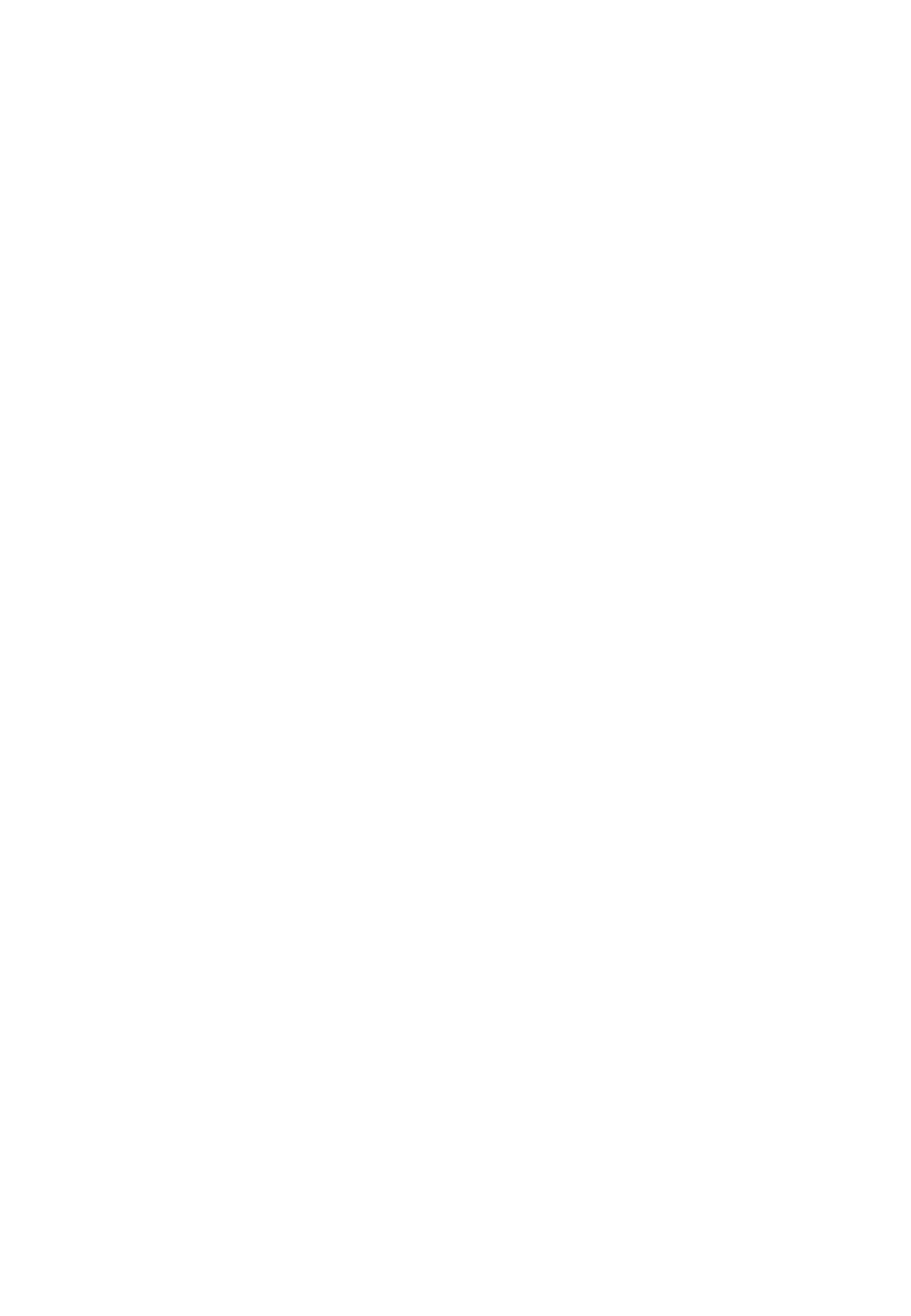
Николай Никонов с баяном. Свердловск, ул. Спорта, 20.
1956 год
1956 год
— А ваша мама Антонина в годы войны жила в деревне? У них были другие условия?
— Просто посытнее было в деревне. Там было свое хозяйство. Была свинья, овцы. Была корова. Молоко было. Правда, молоко сдавали по продразверстке, пили обрат. Единственное, отец моей матери болел туберкулезом, лежал в больнице восемь месяцев. Хлеб в деревне давали в виде зерна, когда сдавали определенного веса поросенка или теленка. И мама молола жерновами это зерно. Жернова эти каменные я потом видела в углу сарая, когда мы приезжали к бабушке.
— У мамы были братья и сестры?
— Да, у нее был старший брат Андрей. Он воевал. Его призвали в 1939 году. Он 1919 года рождения, а мама 1928. Между ними ни один ребенок не выжил, хотя дети рождались с периодичностью в два года. И были еще три сестры у мамы. То есть всего в семье было рождено десять детей, выжило пятеро.
— Брат вернулся с войны?
— Брат вернулся только в 1947 году, он воевал на Дальнем Востоке: Маньчжурскую кампанию прошел.
— Дружная семья со стороны мамы? Общаетесь?
— Общаемся, да. Мы всегда ездили в село на день рождения бабушки Анны Николаевны. Там был дом-пятистенок, и меня маленькую удивляло: у дома четыре стены, а называют пятистенком. А в доме была еще капитальная стена посередине: в крестьянских семьях отделяли старшего сына с семьей, то есть семьи жили в одном доме, но раздельно. Слава Богу, жива моя любимая тетушка Валя, мамина младшая сестра, ей за восемьдесят, но она обладает живым умом. Недавно по моей просьбе записала историю семьи Томиловых, так как знает очень много — она большую часть жизни прожила в Ерзовке, Ирбите и Туринске.
Конечно, двоюродные сестры меня намного старше, поэтому они общались больше с моим старшим братом — они были одного возраста.
Конечно, двоюродные сестры меня намного старше, поэтому они общались больше с моим старшим братом — они были одного возраста.
— Расскажите, пожалуйста, про вашего брата Николая.
— У нас с ним была в одиннадцать лет разница. В 1960–1970-е годы это было, как вы понимаете, очень удобно. Это ведь времена дворовых компаний, например, ЦГ и Динамо. Мы относились к ЦГ, так как жили в доме, где был «Центральный гастроном». Мне было пять лет, брату 16. Он, так сказать, был во всю эту жизнь вовлечен, приходил домой и царапанный, и со следами разборок. Было такое время. Брат учился в университете. Окончил истфак, ездил на археологические раскопки в Суздаль. B моих глазах обладал непререкаемым авторитетом.
—А как брат стал офицером армии?
— Он всегда увлекался военной историей, делал целые игрушечные армии солдат. У него были реплики театров войны: и 1812 года, и Великой Отечественной. После университета он преподавал историю, потом ушел из школы и работал в военкомате Октябрьского района.
Брат погиб в результате несчастного случая в 24 года. И жизнь нашей семьи кардинально изменилась. До этого я росла дворовым ребенком. Меня никто не трогал, потому что у меня был такой старший брат.
Брат погиб в результате несчастного случая в 24 года. И жизнь нашей семьи кардинально изменилась. До этого я росла дворовым ребенком. Меня никто не трогал, потому что у меня был такой старший брат.
— Как жизнь поменялась для вас и семьи после гибели брата?
— До этого все внимание было на брате: на его эскападах и интересах, а я маленький ребенок, у которой нет особых проблем. Но потом внимание, естественно, переключилось на меня — я осталась единственным ребенком. По тем временам я считалась поздним ребенком (Антонина Александровна родила Илону Николаевну в 34 года). Бабушка говорила родителям, что я — их большая удача. Не знаю, как бы они дальше жили после гибели брата, если бы меня не было. Думаю, любая семья, попавшая в подобную ситуацию, испытывала бы большие сложности.
Папа умер в 2003 году, а мама — в 2018 году. Мама взяла весь уход за отцом на себя, когда он болел последние два года. У меня тогда был сын Леша маленький. Папа в последние два года переехал к маме, но по-прежнему ездил работать к себе на квартиру на Сиреневый бульвар.
Папа умер в 2003 году, а мама — в 2018 году. Мама взяла весь уход за отцом на себя, когда он болел последние два года. У меня тогда был сын Леша маленький. Папа в последние два года переехал к маме, но по-прежнему ездил работать к себе на квартиру на Сиреневый бульвар.
— Папа уходил?
— Папа жил в своей «рабочей» квартире. Он был, как мы шутили, «приходящим» мужем и папой. Так стало, когда появилась у папы квартира для работы. Он уходил туда часам к четырем дня. Мы выдыхали и могли заниматься своими делами. Рядом с папой существовать было непросто. А папе было сложно дома работать: в полуторной квартире мы сидели друг у друга на головах, вшестером было очень тесно.
Квартира была на Сиреневом бульваре, на ЖБИ. Он много книг написал там. Оборудовал себе рабочее место в коридоре и, закрыв двери в комнату и кухню, мог работать. Это был один из способов убрать лишний шум от соседей в бетонной многоэтажке.
Квартира была на Сиреневом бульваре, на ЖБИ. Он много книг написал там. Оборудовал себе рабочее место в коридоре и, закрыв двери в комнату и кухню, мог работать. Это был один из способов убрать лишний шум от соседей в бетонной многоэтажке.
— Папа застал компьютер?
— Первый компьютер мы купили, когда моей дочке Тане было года три. Я купила его со своих переводческих заработков, и стоил он безумных по тем временам денег. То есть папа застал компьютер, но не работал на нем. Он писал от руки. Рукопись обычно писалась в пяти вариантах, и только пятый отдавался машинистке на перепечатку.
— А чем папа болел?
— Рак. Он болел десять лет, но два последних года были тяжелыми. А у мамы к девяноста годам закончились ресурсы. У нее было несколько микроинсультов. Мы ее реабилитировали, лечили. Она очень ответственно относилась сама к лечению, и это очень помогало. Мама жила до 89 лет самостоятельно, но потом у нее начались проблемы со зрением, потом сломала шейку бедра, ногу срастили, но из-за двух операций под наркозом силы организма просто иссякли.
— А что вас сподвигло заниматься изучением рода?
— Мне кажется, что корни свои надо знать, надо за что-то держаться. Мы не можем находиться в безвоздушном пространстве, тем более что наши корни годами пытались выдрать, обрезать, а мы все за них цепляемся.
— Как ваша мама относилась к вашим исследованиям семейной истории?
— Мама архивировала все, что есть дома. Папа странно относился ко всему этому наследию (показывает на старинные фотографии), они хранились не у нас, у дедушки. Он очень любил бабушку Ирину Карповну, много знал о ее семье и семье отца. В книгах он описывал и деда, и прадеда:«Дед мой, служа фельдфебелем в Туркестане, дважды награждался за стрельбу именными серебряными часами» (Н. Никонов, «Размышление на пороге. Опыт автобиографии»). Один брегет сохранился, хоть и с нерабочим механизмом.
Еще цитата: «Оба мои деда, по отцу и по матери, были страстнейшие лошадники. У деда по отцу Григория Андреевича Никонова была даже кровная вороная кобыла Лезгинка, был иноходец (бабушка, вспоминая, говорила: «Виноходец»)» (Н. Никонов, «В Поисках вечных истин»). Согласно имеющемуся у нас «паспорту лошади» с подробным перечислением нескольких поколений ее предков, лошадь была приобретена на конном заводе Соломирских в Сысерти.
Папа или не хотел, или не имел времени заниматься этими материалами. Думаю, тогда это было не в моде. Это сейчас в госархив невозможно попасть.
Когда Григорий Григорьевич умер в 1979 году, в наследство нам остался большой черный портфель со множеством фото, в том числе и профессиональных, с витиеватыми надписями и медалями на обороте: «Фотография Хамьянова», «В. А. Метенкова», «Н. Терехова, Театральная ул. № 21, собственный дом», «Н. Н. Введенского, Златоустовская, 22, тел: 2-51», «Фотография Бр. Козловых» и «VisitPortrait», «CabinetPortrait» с лицевой стороны. Ближняя родня была родителям более или менее известна, но со многих фото на меня смотрели лица, о которых в семье никто ничего сказать определенного не мог.
Тогда я пошла к младшей сестре моей бабушки Елены Александровны Никоновой в надежде, что Зоя Александровна Гущина сможет хоть что-то подсказать мне. Она с мужем жила на Мамина-Сибиряка, там частные дома были, немножко дальше зоопарка. У них еще был свой яблоневый сад и голубятня. И я, взяв этот огромный дедушкин портфель с фотографиями, пошла к ней, которая жила вместе с домработницей Настюшей. Та с 14 лет с ними: с Зоей и ее мужем Александром Гущиным. Дедушка называл его Санчик. Они с дедом одно время работали вместе на заводе. И кого Зоя Александровна вспомнила, мы подписали. И я благодаря этому порыву сейчас, смотря на фотографии, знаю, кто из них есть кто. Кроме того, я узнала немало интересного из жизни моих родственников.
Еще цитата: «Оба мои деда, по отцу и по матери, были страстнейшие лошадники. У деда по отцу Григория Андреевича Никонова была даже кровная вороная кобыла Лезгинка, был иноходец (бабушка, вспоминая, говорила: «Виноходец»)» (Н. Никонов, «В Поисках вечных истин»). Согласно имеющемуся у нас «паспорту лошади» с подробным перечислением нескольких поколений ее предков, лошадь была приобретена на конном заводе Соломирских в Сысерти.
Папа или не хотел, или не имел времени заниматься этими материалами. Думаю, тогда это было не в моде. Это сейчас в госархив невозможно попасть.
Когда Григорий Григорьевич умер в 1979 году, в наследство нам остался большой черный портфель со множеством фото, в том числе и профессиональных, с витиеватыми надписями и медалями на обороте: «Фотография Хамьянова», «В. А. Метенкова», «Н. Терехова, Театральная ул. № 21, собственный дом», «Н. Н. Введенского, Златоустовская, 22, тел: 2-51», «Фотография Бр. Козловых» и «VisitPortrait», «CabinetPortrait» с лицевой стороны. Ближняя родня была родителям более или менее известна, но со многих фото на меня смотрели лица, о которых в семье никто ничего сказать определенного не мог.
Тогда я пошла к младшей сестре моей бабушки Елены Александровны Никоновой в надежде, что Зоя Александровна Гущина сможет хоть что-то подсказать мне. Она с мужем жила на Мамина-Сибиряка, там частные дома были, немножко дальше зоопарка. У них еще был свой яблоневый сад и голубятня. И я, взяв этот огромный дедушкин портфель с фотографиями, пошла к ней, которая жила вместе с домработницей Настюшей. Та с 14 лет с ними: с Зоей и ее мужем Александром Гущиным. Дедушка называл его Санчик. Они с дедом одно время работали вместе на заводе. И кого Зоя Александровна вспомнила, мы подписали. И я благодаря этому порыву сейчас, смотря на фотографии, знаю, кто из них есть кто. Кроме того, я узнала немало интересного из жизни моих родственников.
— Какие истории в исследованиях для вас стали открытием?
— Я знала, что бабушка отца Ирина Карповна из Старой Утки. Я не знала, что несколько поколений у нас работало на Монетном дворе в Екатеринбурге, на Верх-Исетском заводе, в Березовской золотопромывной компании.
Прапрапрадед мой, как выяснилось, был из «мастерских детей». Поступил туда в возрасте 15 лет учеником горного и маркшейдерского (маркшейдер — это горный инженер или техник) дела. Но это я недавно выяснила. На момент начала поисков я только знала, что Никоновы были мещанами города Екатеринбурга. Есть две фотографии семьи Никоновых: Ирина Карповна и ее муж Григорий Андреевич вместе с родственниками. И есть точно такая же фотография семейства Копытовых – со стороны Елены Александровны (мать Николая Никонова). Задники снимков идентичны. Я не дошла до Музея Метенкова и до консультации с ними, но у меня в планах выяснить историю этих фотографий.
Когда мы с Катей Калужниковой работали над выставкой «Никоновы: имя на карте города», мы взяли только одну линию, по ней шли. Как я недавно выяснила, семейство Копытовых происходит из села Гробовского (теперь село Первомайское), к началу ХХ века семья жила уже в Екатеринбурге.От папы я точно знала, что его дед по маминой линии служил управляющим спичечной фабрики товарищества Логинова в Тавде. Супруга фабриканта Логинова была крестной матерью Елены Александровны.
Но пока я не нашла Копытовых ни в одной из ревизских сказок. Данные по Всероссийской переписи 1897 года по Пермской области не сохранилось. Но мне нашли в Тобольском архиве результаты переписи села Ерзовское за 1897 год. Это село, где родилась моя мама. И отец Виссарион, священник, занимающийся историей села Ерзовского и его уроженец, нашел там Томиловых. В то время, в 1897 году, деду с маминой стороны Александру Капитоновичу было два года, а его старшему брату Федору восемь лет. И история его ничуть не менее занимательна, чем сюжеты пьес Шекспира. Федора в 1916 году призвали в армию и взяли его в Русский экспедиционный корпус, который Николай II послал во Францию на помощь союзникам, и они через Дальний Восток, обогнув Индию, доплыли до Марселя. Поcле окончания войны Федор вернулся в Россию в 1919 году.
Прапрапрадед мой, как выяснилось, был из «мастерских детей». Поступил туда в возрасте 15 лет учеником горного и маркшейдерского (маркшейдер — это горный инженер или техник) дела. Но это я недавно выяснила. На момент начала поисков я только знала, что Никоновы были мещанами города Екатеринбурга. Есть две фотографии семьи Никоновых: Ирина Карповна и ее муж Григорий Андреевич вместе с родственниками. И есть точно такая же фотография семейства Копытовых – со стороны Елены Александровны (мать Николая Никонова). Задники снимков идентичны. Я не дошла до Музея Метенкова и до консультации с ними, но у меня в планах выяснить историю этих фотографий.
Когда мы с Катей Калужниковой работали над выставкой «Никоновы: имя на карте города», мы взяли только одну линию, по ней шли. Как я недавно выяснила, семейство Копытовых происходит из села Гробовского (теперь село Первомайское), к началу ХХ века семья жила уже в Екатеринбурге.От папы я точно знала, что его дед по маминой линии служил управляющим спичечной фабрики товарищества Логинова в Тавде. Супруга фабриканта Логинова была крестной матерью Елены Александровны.
Но пока я не нашла Копытовых ни в одной из ревизских сказок. Данные по Всероссийской переписи 1897 года по Пермской области не сохранилось. Но мне нашли в Тобольском архиве результаты переписи села Ерзовское за 1897 год. Это село, где родилась моя мама. И отец Виссарион, священник, занимающийся историей села Ерзовского и его уроженец, нашел там Томиловых. В то время, в 1897 году, деду с маминой стороны Александру Капитоновичу было два года, а его старшему брату Федору восемь лет. И история его ничуть не менее занимательна, чем сюжеты пьес Шекспира. Федора в 1916 году призвали в армию и взяли его в Русский экспедиционный корпус, который Николай II послал во Францию на помощь союзникам, и они через Дальний Восток, обогнув Индию, доплыли до Марселя. Поcле окончания войны Федор вернулся в Россию в 1919 году.
— И как сложилась судьба Федора?
— Всю жизнь прожил в Ерзовке, был искусным столяром и краснодеревщиком. И не тронули его потому, что он обеспечивал мебелью все тамошнее деревенское и городское начальство. Как говорила бабушка Анна Николаевна, Федор очень хорошие «шапоньеры» делал. Там в селе такой говор.
C моим профессиональным слухом я невольно сразу перенимала это туринское оканье, когда бывала там у бабушки летом: «Тако ладно, ладно, чо...» Там с точки зрения лексики очень интересно. Есть слова, которые у нас здесь не знают: голбец, гаманок. Голбец — подпол, гаманок — кошелек.
C моим профессиональным слухом я невольно сразу перенимала это туринское оканье, когда бывала там у бабушки летом: «Тако ладно, ладно, чо...» Там с точки зрения лексики очень интересно. Есть слова, которые у нас здесь не знают: голбец, гаманок. Голбец — подпол, гаманок — кошелек.
— Как родилась идея сделать выставку, посвященную Никоновым, в Музее истории Екатеринбурга?
— Катя Калужникова работала с нашими особыми ребятами (у младшего сына Илоны Николаевны Алексея расстройство аутистического спектра) в проекте по художественному осмыслению мира. Алеша у меня всегда любил рисовать, он рисует графику. И мы с ним участвовали в организованной в ковид фондом «Особое зрение» онлайн-галерее. И мы попали в круг общения с Катей через этот проект. А потом я уже узнала, что она работает в музее. Они рисовали как-то башню водонапорную с Алешей, и мы с Катей разговорились. Выяснили, что у музея есть интерес к жителям Ленина, 52, так все и началось и сложилось.
